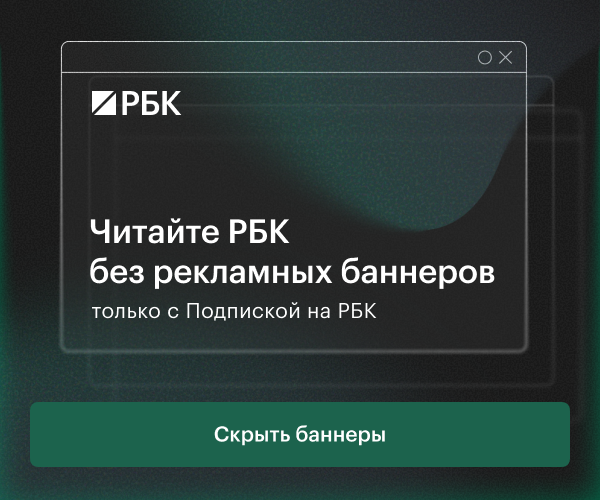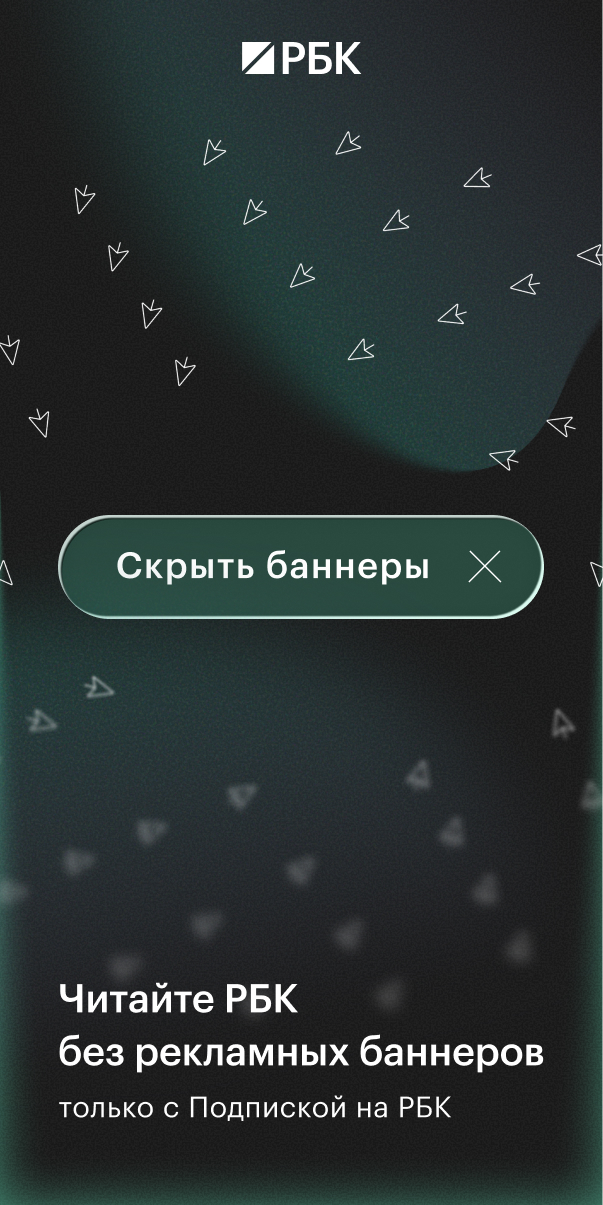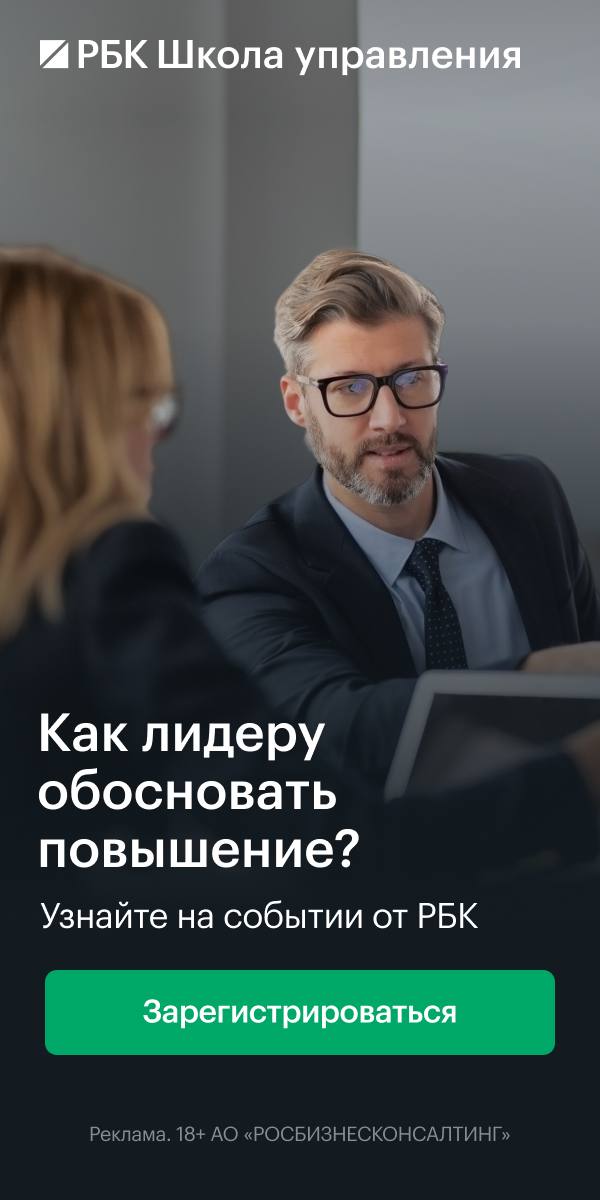Прислушались к совету: как менялся статус российских правозащитников
Сообщение о возможной отставке Михаила Федотова с поста председателя Совета по правам человека (СПЧ) и его замене нынешним секретарем Общественной палаты Валерием Фадеевым похоже на запланированную утечку, цель которой привлечь внимание правозащитного сообщества к этим кадровым решениям и попробовать повлиять на них. Тем более что есть простой способ избежать ухода Федотова с должности главы совета. Ему исполнилось 70 лет — предельный возраст пребывания на государственной службе, — но это ограничение относится лишь к его посту советника президента. СПЧ же он вполне может возглавлять и на общественных началах. Однако речь в данном случае идет о политическом выборе, какая правозащита нужна российской власти.
Правильная правозащита
Тема заинтересованности власти в более лояльных правозащитниках обсуждается с 2003 года, когда участники правозащитного движения вступились за Михаила Ходорковского. Причем официально полезность защитников прав человека никогда не отрицалась, но ситуация была похожа на старую советскую историю о том, как в 1952 году в отчетном докладе XIX съезду ВКП(б) Георгий Маленков заявил: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Прошел год — умер Сталин, Маленков стал одним из членов коллективного руководства страны. И в журнале «Крокодил» появилась эпиграмма Юрия Благова, которая стала одним из первых, еще малозаметных признаков будущей оттепели и одновременно ненадежности позиций Маленкова: «Мы — за смех! Но нам нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».
Правозащитник в чем-то сродни сатирику: он по определению неудобен для власти. Но в те же советские времена все-таки были направления не просто разрешенной, но и поощряемой правозащиты. Первое из них — отстаивание социально-экономических прав граждан. Разумеется, забастовки были неприемлемы (хотя иногда стихийно вспыхивали), но если работнику недоплачивали кровно заработанное или мелкий чиновник затягивал с предоставлением пособия, то на защиту интересов человека вставали разного рода структуры, от официальных профсоюзов до официальной же прессы. Даже уволенный диссидент мог получить по суду незаконно «зажатые» начальством деньги — разумеется, восстановиться на работе он не мог. В то же время выход за пределы критики «отдельных недостатков» даже в социально-экономической сфере приравнивался к диссидентству и наказывался.
Если посмотреть современную статистику обращений к уполномоченным по правам человека, то основное место в ней занимают именно социальные темы. Так как подобные обращения индивидуальны (у каждого человека своя беда), то они не предусматривают активного выхода в публичное пространство. Так что хотя сейчас и не запрещено «обобщать», то есть критиковать экономическую политику в целом, но в рамках правозащитной деятельности это обычно не делается. Этим правозащитник отличается от политика. Кстати, есть точка зрения, что либеральные правозащитники далеки от нужд простых людей и не занимаются социальной проблематикой. На самом деле все сложнее: правозащитник готов заниматься и этими темами, если к нему обратятся пострадавшие. Но сами люди часто по привычке идут по таким вопросам в государственные органы, рассчитывая, что начальство обратит внимание на их нужды.
Другое дело, что правозащитник — это часто защитник прав именно меньшинств, к которым государство не склонно прислушиваться. На гарантиях прав меньшинств держится современная демократия. Большинству это нередко чуждо — впрочем, само это большинство не представляет собой монолита. И если сегодня человек требует карать преступников по принципам Глеба Жеглова, то завтра, если его близкий окажется за решеткой, он поспешит к презиравшимся им до этого правозащитникам с просьбой (а то и требованием) немедленно вмешаться.
Второе направление — защита прав человека за рубежом. Официальная советская правозащита защищала многих зарубежных персонажей, от чернокожей активистки Анджелы Дэвис до борца за права индейцев Леонарда Пелтиера. Сейчас место иностранцев заняли соотечественники — Виктор Бут, Константин Ярошенко, Мария Бутина. Из иностранцев остается разве что Джулиан Ассанж, но интерес к нему не так высок: российская аудитория не претендует на всемирность, а больше интересуется судьбами «своих».
Представительство оппозиции
В то же время взаимоотношения власти и нелояльных правозащитников не носили линейного характера. В 2004 году был создан СПЧ во главе с Эллой Памфиловой, в который, впрочем, входили и Людмила Алексеева, и Олег Орлов из «Мемориала», и в то же время немало лоялистов (включая, кстати, и Фадеева). После избрания президентом Дмитрия Медведева совет в 2009-м был переформирован: в нем стало больше критиков власти. СПЧ стал как бы представительством оппозиции в Кремле — Медведев выдвигал идеи модернизации и сближения с Западом («перезагрузки»), и критики оказались востребованы хотя бы для того, чтобы услышать альтернативную точку зрения. В 2012-м, когда вернулся Владимир Путин и началась консервативная волна, ряд недостаточно лояльных к власти членов совета, который в 2011 году возглавил Михаил Федотов, покинули его ряды.
Казалось, что СПЧ может прекратить свое существование или же превратиться в полностью лояльный орган. Но этого не произошло: похоже, что власть еще нуждалась в «другом мнении», тем более исходящем от консультативного органа, не принимающего обязательных решений. СПЧ был реорганизован, в него пришли новые критики, которые соседствовали с лоялистами, но все равно занимали заметные позиции в совете. В немалой степени это было связано с персональным фактором, традиционно играющем в России немалую роль, — с личностью Людмилы Алексеевой, возглавлявшей в течение многих лет Московскую Хельсинкскую группу. Она была единственным правозащитником из числа диссидентов советского времени, с которым считались в Кремле. В июле 2017-го на 90-летие к ней приезжал Владимир Путин, в том же году она получила Государственную премию. В декабре 2018-го Алексеева скончалась, а замены ей в качестве коммуникатора с властью в правозащитном движении нет.
Еще один фактор, обеспечивавший долговечность «совета Федотова», заключался в том, что демократическая оппозиция и правозащита воспринимались властью как явления маргинальные, не оказывающие серьезного влияния на общественные настроения. Все политические силы, находящиеся за рамками «крымского консенсуса», были ослаблены, и к ним относились несерьезно. Сейчас ситуация меняется, и протестное движение воспринимается как более серьезный фактор, влияющий на общественное мнение. По данным Левада-центра, приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, об их справедливости говорят всего 24%. Протестующие для власти чужие, силовики же свои, пусть и несовершенные (а других нет). Поэтому, когда представители властного института, пусть периферийного и консультативного, в условиях роста политических рисков начинают активно защищать чужих и критиковать своих, появляются формальные поводы для кадровых перемен.
Такая тенденция существует не только в отношении СПЧ. Минюст направил иск в Верховный суд о ликвидации одной из наиболее известных правозащитных организаций, движения «За права человека» Льва Пономарева. «Мемориал» не получил государственного финансирования на свои проекты как по сохранению памяти жертв политических репрессий, так и по адаптации и интегрированию мигрантов и беженцев. Так что «подобрее Щедрины» вполне могут быть востребованы — другое дело, что заменить настоящих правозащитников они не смогут.