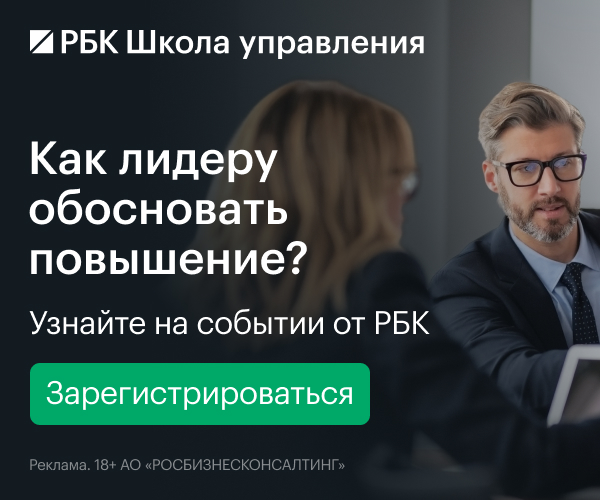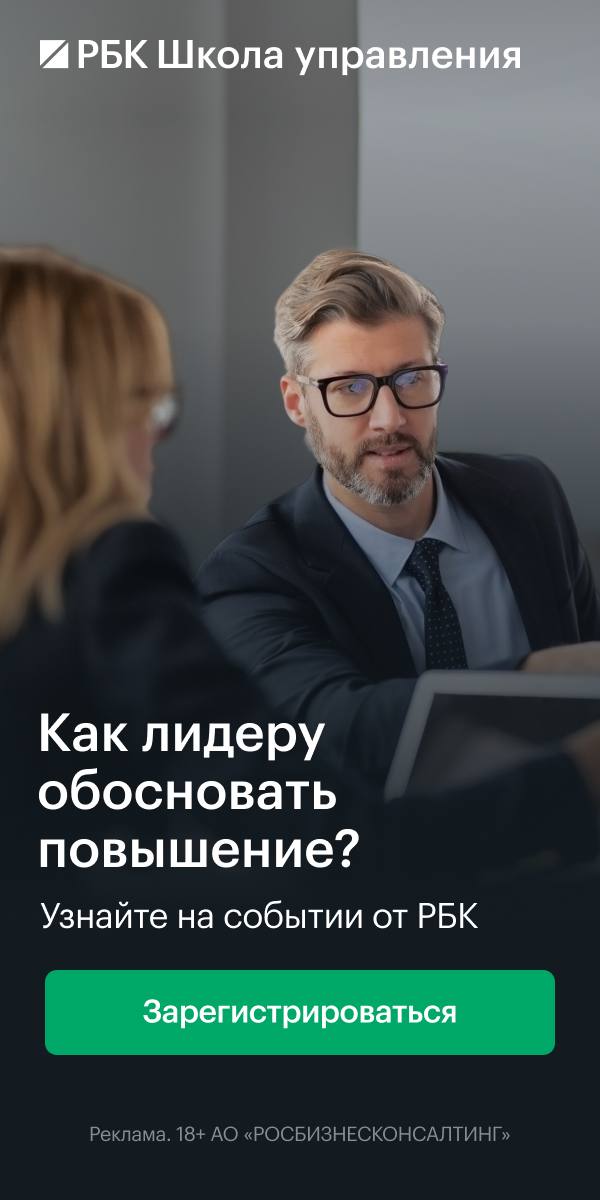Власти смягчат ответственность врачей за ошибки с обезболивающими

Бюджет проекта
В правительстве подготовлен паспорт приоритетного проекта «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Российской Федерации». Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил высокопоставленный чиновник в правительстве. В последней редакции затраты на проект должны кратно вырасти, рассказал РБК источник в правительстве. Он также сообщил, что паспорт проекта будет утвержден в январе 2018 года.
Проект по развитию паллиативной помощи, куратором которого выступает вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, а руководителем министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, рассчитан на семь лет и три месяца, то есть будет действовать по 1 апреля 2025 года. Пока объем его финансирования составляет 630 млн руб., по 90 млн руб. из федерального бюджета на каждый год. Однако эта сумма будет увеличена. Только в 2018 году на организацию ухода за тяжелобольными людьми из федерального бюджета дополнительно направят 4,3 млрд руб., сообщил Владимир Путин на церемонии вручения госпремий за достижения в области благотворительной деятельности 18 декабря. Эти средства должны пойти на правительственный проект паллиативной помощи, уточнил источник РБК в Белом доме.
Пока проект существует в рабочем варианте и комментировать его конкретное содержание преждевременно, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец. Однако там подчеркнули, что тема паллиативной помощи остается «одной из важнейших для социальной сферы и регулярно обсуждается» советом при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер по социальным вопросам.
Документ находится «в высокой степени готовности», сказали РБК в пресс-службе «открытого правительства». «Планируем завершить подготовку проекта и до конца декабря представить его паспорт совету по стратегическому развитию», — сообщил РБК пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.
Другой подход
Паллиативная помощь — это подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается путем предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других тягостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки. Число пациентов, которым требуется паллиативная помощь в России согласно методике расчета ВОЗ — около 1,3 млн человек. Число получивших ее в 2017 году россиян согласно паспорту проекта — 142 тыс. человек.
Паспорт проекта по паллиативной помощи предусматривает изменение законодательства в этой сфере, в частности отмену уголовной ответственности для медиков, в случае если незначительные ошибки, допущенные при работе с наркотическими обезболивающими, не привели к тяжким последствиям. Предполагается также утвердить стандарты и клинические рекомендации (медицинские документы — инструкции для врачей) по оказанию паллиативной помощи. Кроме того, в проекте описаны шаги по развитию оказания такой помощи на дому, по обучению специалистов в этой области, по повышению доступности обезболивающих лекарств, в том числе для детей, медицинских изделий для тяжелобольных, а также средств реабилитации.
Отдельно паспорт предусматривает усиление взаимодействия между государственными ведомствами и некоммерческими организациями (НКО).
Подготовка проекта велась полтора года, сообщила РБК учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Помимо сотрудников «Веры» и Ассоциации хосписной помощи в ней участвовали эксперты «открытого правительства», представители профильных ведомств — Минздрава и Минтруда. Над проектом работают экспертное сообщество и «открытое правительство», подтвердил РБК Олег Салагай.
Одна из задач проекта — изменить подход к финансированию паллиативной помощи, рассказала РБК Федермессер. Сейчас финансирование медучреждений рассчитывается исходя из числа дней, проведенных пациентами на больничных койках, и это тормозит развитие помощи для тяжелобольных людей, утверждает она. «В 2018 году оплата будет привязана не только к койке, но и к визиту специалиста к пациенту», — пояснила Федермессер. Важно дать человеку возможность уйти из жизни дома, в кругу семьи, поясняет она. «Нужно развивать выездные патронажные службы помощи на дому. Для этого понадобится обучать и нанимать медицинский персонал, закупать автомобили и медицинскую аппаратуру, например аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — говорит Федермессер.
Расчетные показатели
Сейчас оказание паллиативной помощи не регулируется в должной мере, объясняет Федермессер. «В законодательстве нет терминологической базы, отсутствуют стандарты лечения и клинические рекомендации, не хватает врачей. В регионах без нормативных документов они сами кто как решают, как быть с паллиативной помощью, и контролировать качество оказания очень сложно», — рассказала учредитель фонда «Вера». Например, в Новосибирске местный Минздрав объединил детское и взрослое паллиативные отделения, что неприемлемо с точки зрения потребностей неизлечимо больных детей и взрослых, рассказала она.
В паспорте проекта обозначены плановые показатели, этапы и контрольные точки. Число российских пациентов, получающих паллиативную помощь в России, должно увеличиться с 142 тыс. человек в 2017 году до 231 тыс. к 2024-му. Количество посещений таких пациентов медицинскими работниками патронажных служб паллиативной помощи должно возрасти с 280 тыс. до 1 млн в год. Член рабочей группы по разработке приоритетного проекта Екатерина Шапочка сообщила РБК, что после поддержки программы президентом и увеличения финансирования проекта показатели по охвату пациентов можно будет пересмотреть.
Число врачей, оказывающих паллиативную помощь, должно увеличиться с 345 до 918 человек. Количество обезболивающих лекарств, не требующих введения с помощью шприца (пластыри, пастилки), для детей до трех лет должно возрасти с одного препарата до четырех. А для детей старше трех лет — с шести препаратов до девяти.
В первый год действия проекта планируется утвердить профессиональные стандарты «врач по паллиативной медицинской помощи» и «сиделка», разработать план-график по утверждению нормативно-правовых актов. Кроме того, документ предполагает изучение опыта регионов, определение критериев признания граждан паллиативными пациентами и составление перечня лекарств и медицинских изделий, которых не хватает больным.
«Мы пытались решить проблему [развития паллиативной помощи] с 2014 года, но именно попадание в фокус внимания президента позволили вывести паллиативную помощь в приоритетное направление политики. В случае реализации проекта уже в 2018 году в регионах появятся автомобили для выездных бригад, будут закуплены аппараты для ИВЛ на дому, выделены дополнительные средства на обезболивающие препараты. И мы сумеем сделать так, чтобы не менее половины нуждающихся получали помощь там, где им удобно, дома или в хосписе. Если проект будет реализован качественно, то это будет прорыв в области ухода на дому», — резюмировала Федермессер.
Широкое общественное обсуждение проблемы обеспечения тяжелобольных обезболивающими препаратами началось после того, как в феврале 2014 года покончил с собой контр-адмирал ВМФ Вячеслав Апанасенко. Его дочь, Екатерина Локшина, позже рассказала, что для того, чтобы получить обезболивающее, необходимо проводить «многие часы в поликлинике», а в день перед смертью его жена в очередной раз не смогла получить прописанный ему морфин, «потому что не хватило буквально одной подписи».
В Минздраве тогда объяснили нехватку лекарств для онкобольных человеческим фактором, посоветовали обращаться на горячую линию, пообещав решать срочные обращения в десятидневный срок. Глава ведомства Вероника Скворцова тогда же связала проблемы с нехваткой обезболивающих в регионах с нарушением «внутрирегиональной логистики» и с тем, что препараты долго выдают со складов.
В конце декабря 2014 года был принят закон, облегчающий доступ к таким лекарствам. В частности, срок действия рецепта увеличили с 5 до 15 дней, а родственников больных освободили от обязанности возвращать в аптеку упаковки от использованных препаратов. Новые правила вступили в силу с 1 июля 2015 года. За первые месяцы того же года СМИ сообщили о десятках новых случаев самоубийств онкологических больных. Среди погибших был еще один высокопоставленный военнослужащий — генерал-лейтенант ВВС в отставке Алексей Кудрявцев.
Еще в ноябре 2015 года представители Минздрава сообщали о намерении создать единый реестр пациентов, нуждающихся в сильнодействующих обезболивающих. В марте 2017 года об этой идее заговорили вновь: вице-премьер Ольга Голодец поручила создать госрегистр к 2018 году.
Еще одна проблема, вызывающая трудности в обеспечении пациентов препаратами, — это опасения врачей относительно возможного уголовного преследования в результате неверного оформления процедуры назначения наркотических обезболивающих. В марте 2017 года сообщалось, что за 2010–2015 годы за нарушения правил оборота наркотических лекарственных средств правоохранительные органы возбудили 153 уголовных дела в отношении медицинских и фармацевтических работников. Процесс по одному из наиболее громких дел завершился в 2014 году: терапевта из Красноярска Алевтину Хориняк обвиняли в том, что она выписала рецепт на обезболивающее онкобольному, прикрепленному к другой поликлинике. Однако суд в итоге принял решение ее оправдать.