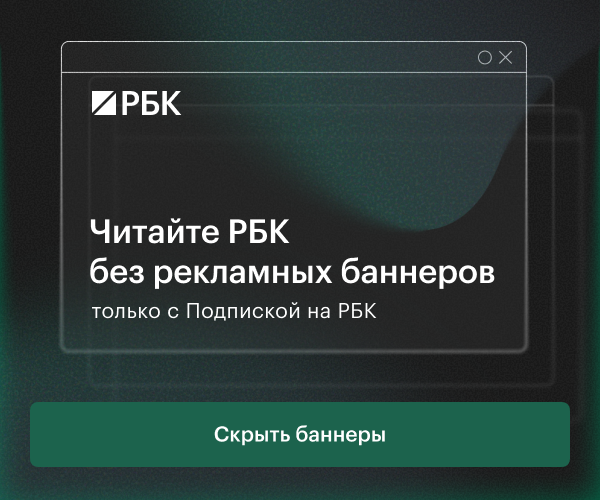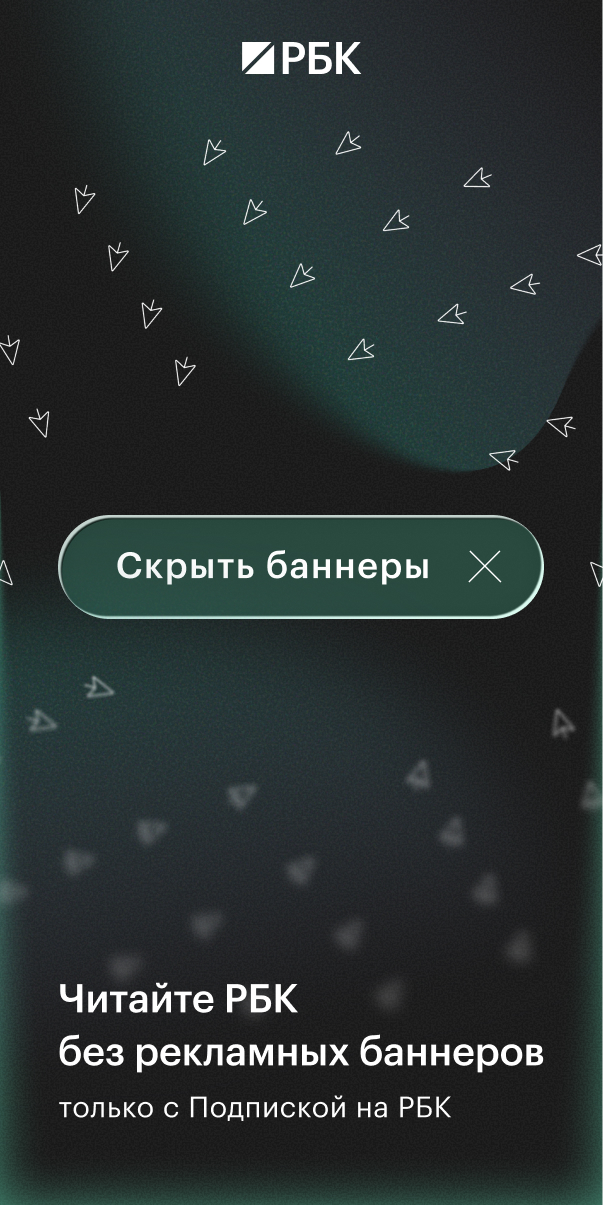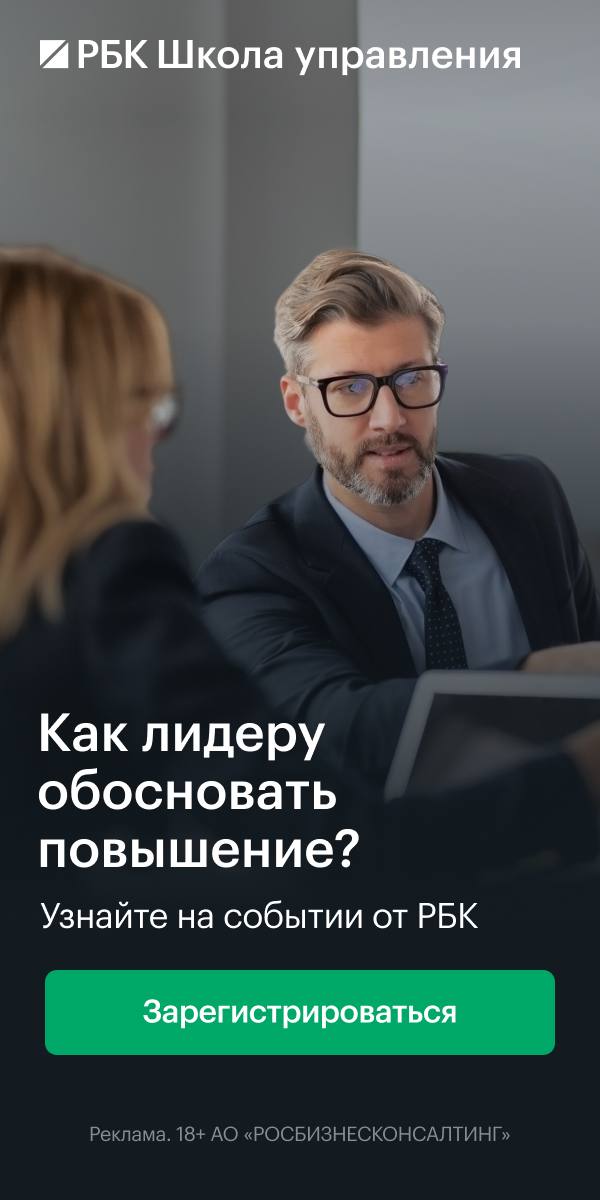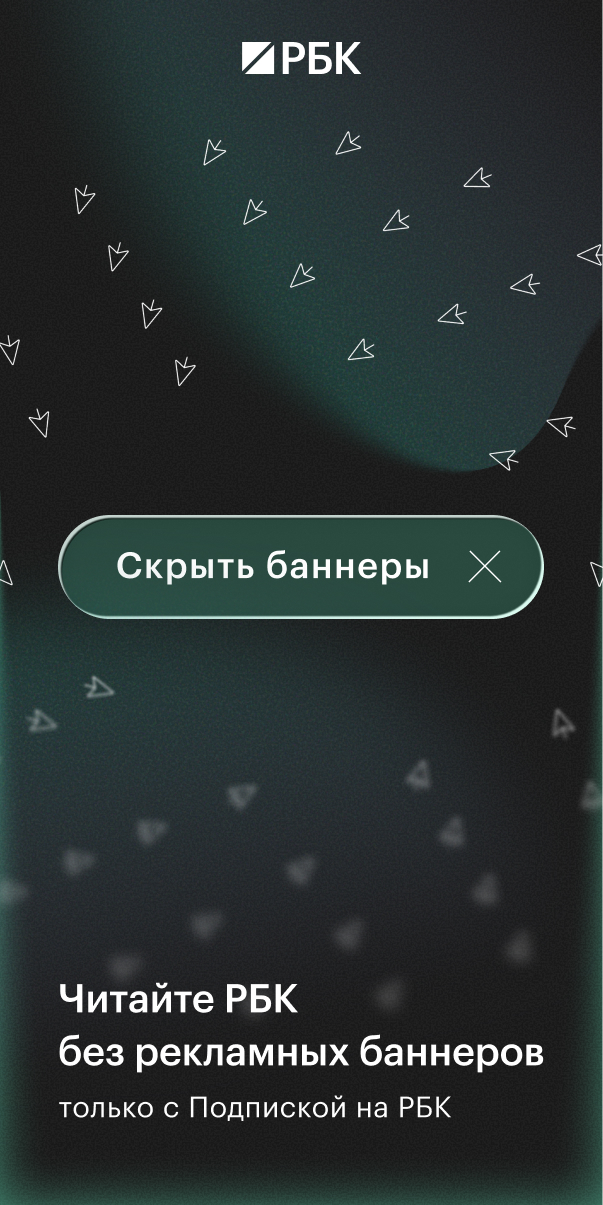Telegram судьбы: как скандал связан с выбором исторического пути России
Полемика и общественное возбуждение по поводу блокировки Telegram близятся к апогею. Самым важным событием последних дней стало появление признаков раскола по этому вопросу среди тех, кто встроен в современную политическую систему, и среди самих представителей власти. Последние выражаются осторожно, но некоторые вполне определенно дают понять, что не одобряют того поворота, который приобрело развитие событий, и считают, что войну с мессенджером лучше прекратить. Риторика и первых, и вторых прямо или косвенно связывает сюжет вокруг Telegram с более общим вопросом о политике изоляционизма и демодернизации. На это указывает в своем заявлении, например, Алексей Кудрин, который параллельно ведет консультации с Дмитрием Медведевым относительно реформы госуправления. Бюрократический и политический класс поляризуется по этим вопросам, и Telegram оказался тем (почти случайным) поводом, который способствует констелляции двух платформ внутри правящих и околоправящих элитных групп.
Репрессии постфактум
Формальным и реальным (как представляется) основанием для блокировки cтал, как известно, отказ мессенджера предоставить спецслужбам ключи шифрования. Сама по себе рациональность этого требования не так уж очевидна. Западные спецслужбы, не меньше российских озабоченные проблемой терроризма, таких требований к интернет-компаниям не выдвигают, а в комментариях прямо говорят, что им это совершенно не нужно. В России идея тотального и прямого контроля со стороны ФСБ всей инфраструктуры интернета стала практически национально-государственной идеологией. И это, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к той стратегии контроля интернета, которую взяли на вооружение российские власти.
Это стратегия репрессивности постфактум. Дума принимает все новые законы, позволяющие блокировать конкретную информацию или наказывать конкретных людей или провайдеров за те или иные действия. А ФСБ хочет иметь полный доступ, исключающий всякую анонимность, чтобы угроза наказания была максимально эффективной.
У российских властей нет аналога китайской firewall и, как показали события вокруг Telegram, нет особых надежд на ее быстрое и эффективное внедрение. Это и вынуждает власти выбрать не китайскую стратегию предцензурирования, а репрессивную стратегию — наказания постфактум. И здесь проступает коллизия гораздо более принципиальная и широкая, нежели судьба конкретного мессенджера. Проблема, имеющая отношение к вопросу о «российском пути» в целом.
Китайский путь
Совершенно очевидно, что для правящей политической коалиции и значительной части российских элит Китай вообще является своего рода заветным маяком. Как совместить динамичное экономическое и технологическое развитие и надежный политический контроль? Это и есть квадратура круга российских властей. Необоримое стремление к контролю пока заставляет преимущественно жертвовать интересами развития. Но довольно ясно, что это путь в никуда.
Философско-политический вопрос состоит в том, можно ли пойти по китайскому пути в обратном направлении. И история Telegram — это и есть наглядная презентация этой общей коллизии.
Попытка блокировки показала, что установление тотального контроля над интернетом чревато настоящим хаосом и огромными потерями для экономики и общества. Российским властям вряд ли удастся легко и эффективно выстроить стену. И проблема в том числе заключается в том, что инфраструктура китайского интернета изначально строилась с включенными в нее ограничителями. В отличие, скажем, от кубинских властей, которые просто отрезали Остров Свободы от Всемирной сети, китайские власти в течение десятилетий решали задачу включения Китая во всемирные цифровые сети и цифровую экономику, но с этими встроенными ограничителями, которые вместе с тем должны нанести минимум вреда задаче технологического и экономического развития.
Это на самом деле частный случай так называемого китайского пути в целом. Точно так же сакраментальный китайский путь представлял собой стратегию выхода из социализма как экономической системы с сохранением его политических институтов или во всяком случае тех ограничений, которые они обеспечивали.
К счастью, по мнению одних, и несчастью, по мнению других, российский путь из социализма оказался совсем другим. Можно оставить психам теории заговора и можно спорить, играли ли в том, каким он оказался, первостепенную роль личностные (Горбачев) или структурные факторы. Но факт состоит в том, что кризис социалистической экономики в СССР перерос в полномасштабный политический кризис — и политические институты коммунистической системы рухнули. Соответственно, и в экономике Россия вынуждена была не проходить одну за другой «ступени открытости», а стремительно адаптироваться к рынку и интегрироваться в мировую экономику с существенными дисбалансами и издержками.
Российские маневры
К несчастью или к счастью, пути России и Китая разошлись. Там выстраивалась одна и экономическая, и интернет-инфраструктура, создававшаяся с учетом прежних политических институтов, здесь — другая, исходным условием которой было их отсутствие и широкая демократизация. Не только Россия, но и Китай переживал на своем пути серьезные кризисы. Однако и там и там выстроено по своему зданию, на возведение которого ушли десятилетия.
Теперь же пристрастие к жестким политическим институтам части российской элиты толкает ее на то, чтобы попробовать воссоздать китайскую модель, соединяющую технологическую и экономическую эффективность и политическую ригидность. Однако для этого сначала придется пройти путь назад — разрушить ту инфраструктуру открытости, которая изначально лежала в основе российской модели и экономических институтов, и интернета. При этом способность разрушать, по мысли адептов этой стратегии, и будет демонстрировать жесткость политических институтов и укреплять их. А потом уже, дескать, займемся выстраиванием новой инфраструктуры эффективной интеграции с встроенными политическими ограничениями.
Проблема в том, что на вторую часть времени может не остаться. Экономическое отставание, дальнейшая деградация конкурентоспособности на первом этапе может привести к новому политическому кризису. И все повторится: вместо вожделенного китайского пути мы получим ремейк советского тупика. Разрушение инфраструктуры открытости, положим, продемонстрирует жесткость политических институтов, но ни в коем случае не будет гарантией их стабильности. Не факт, что те, у кого хорошо получается корчевать, смогут обеспечить рост.
Это вновь возвращает нас к вопросу, который выглядит историческим, но является на самом деле сверхактуальным и ключевым: что произошло в России в 1991 году? Сторонники российского мифа китайского пути считают, что Горбачев, разрешив гласность и вольницу, разрушил политические институты, и это стало причиной последующих бед. Альтернативная точка зрения заключается в том, что последнее поколение советской элиты не нашло никакого способа остановить деградацию экономических институтов советской версии социализма, что и привело к коллапсу политических институтов.
Парадокс: сторонники китайского пути также сфокусированы на политике, откладывая экономику на потом, как это делал Горбачев. В то время как реальный китайский путь состоял в том, что экономика — сначала. Сами по себе жесткие политические институты вовсе не обеспечивают рост, а вот стабильными оказываются те, которые его обеспечивают. Даже если они жесткие. Телега всегда находится позади лошади, но не все, к чему вы приставите сзади телегу, станет лошадью.