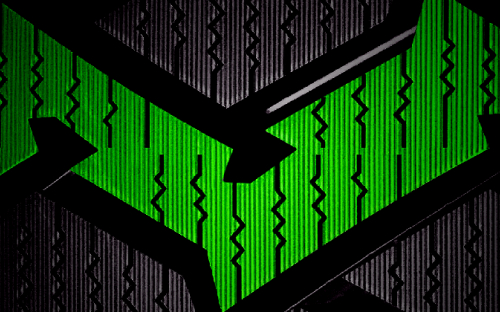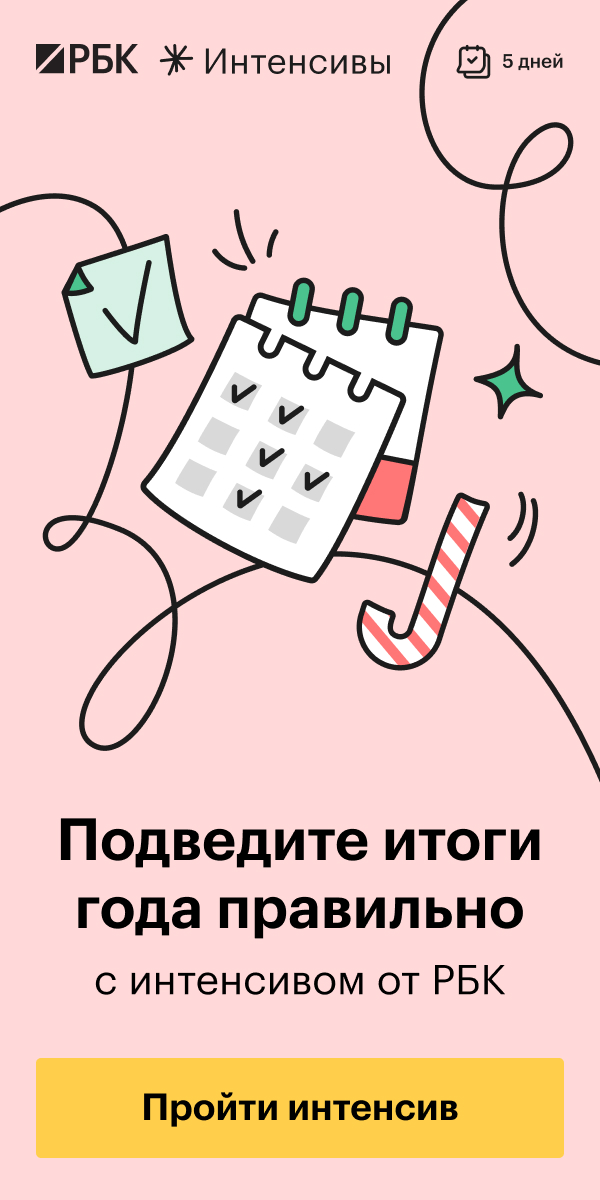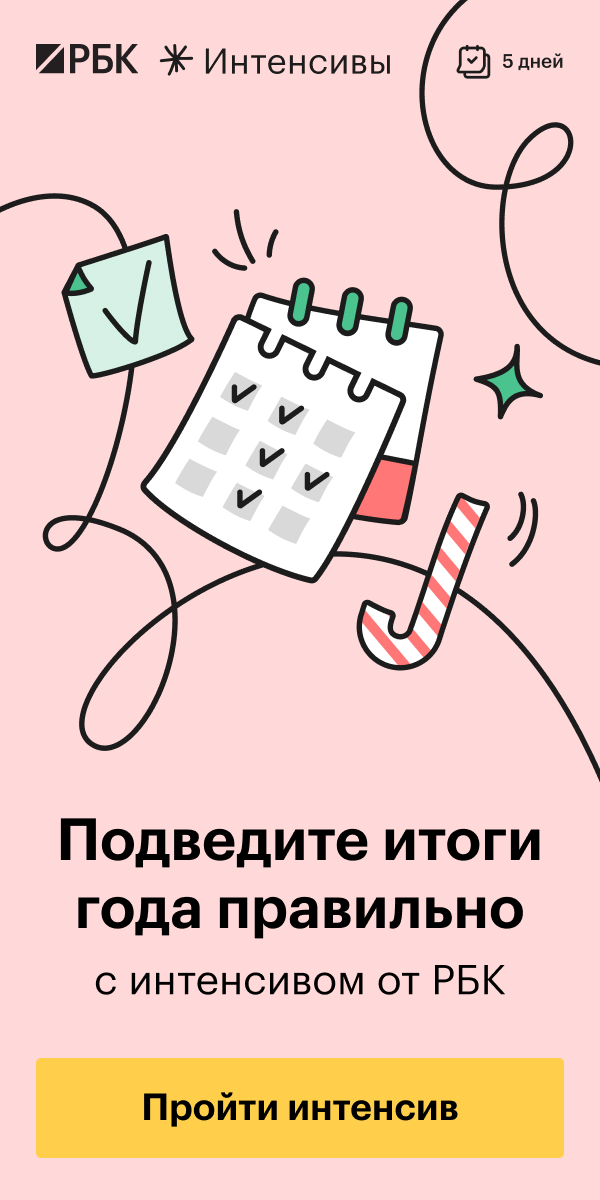Лукавый праздник: почему у трудящихся не осталось солидарности
Праздник 1 Мая, несмотря на переименование, сохраняет свою «пролетарскую» составляющую не только в России, но и во многих других странах мира. Однако есть ли что праздновать?
Праздник возник, когда во всем мире торжествовало индустриальное общество, когда рабочий день продолжался по 12–14 часов, а если пролетарии поднимались на протест, то против них применялось оружие. В том обществе существовало неразрешимое противоречие между буржуа и рабочими: они были нужны друг другу, но при этом претендовали на возможно большую часть добавленной стоимости. В те годы казалось, что буржуазия богатеет на производстве оружия, контролирует национальные правительства и стремится к агрессии и войне, тогда как рабочие, которым «нечего терять, кроме своих цепей», — по определению интернационалисты, готовые объединиться ради мировой революции.
Сегодняшний мир радикально изменился — настолько, что само упоминание о Дне международной солидарности трудящихся выглядит странным.
Несуществующая солидарность?
Начнем с самого главного — с солидарности. За столетие глобализация проделала с международным рабочим движением злую шутку. Оказалось, что в начале XXI столетия если какой класс и выступает сторонником единого и «плоского» мира, то это высшие элиты общества, те, кто владеет или управляет крупными транснациональными корпорациями. Предприниматели, в прошлом казавшиеся консерваторами-националистами, превратились в тех, кто менее всего готов признавать границы и оперировать в пределах «своих» государств.
В то же время трудящиеся, добившиеся, впрочем, существенных успехов в борьбе за свои права, оказались махровыми националистами. Мне никогда не забыть своего выступления во французском Фонде Габриэля Пери, когда я посмел позитивно отозваться о введении евро, ведь одним из его главных последствий стало выравнивание уровня экономического развития северных и южных стран ЕС, снижение доли безработных в экономически активном населении Испании с 24% в 1994 году до 8% в 2005-м. Собравшиеся там французские коммунисты смотрели на тему иначе: наметившийся переток производств в Испанию угрожал интересам местных рабочих.
Разве левые силы проталкивали в европейских структурах «директиву Болкестайна», либерализовавшую европейский рынок услуг? Нет, это делали ультралибералы, хотя борьба за единые стандарты не могла не считаться частью пресловутой «солидарности трудящихся». Я не говорю про российских коммунистов, которые не испытывают никакого классового влечения в отношении гастарбайтеров из бывших советских республик. Конечно, левые во всех развитых государствах готовы бесконечно выступать в поддержку угнетаемых жителей глобальной периферии, но менее всего желают они встретиться с ними на рынке труда в собственных странах. Иначе говоря, ни о какой «солидарности трудящихся» речи, по-моему, давно уже не идет.
Индивидуальная экономика
Да и сами трудящиеся сегодня совсем уже не те. Я даже не буду упоминать, что непосредственно занятыми в материальном производстве можно считать от 8 до 14% экономически активного населения развитых стран (это не столь важно, так как многие работники сферы услуг сегодня трудятся никак не меньше пролетариев прежних лет). Проблема в том, что коллективные действия обесцениваются самим существом современной индивидуализированной экономики.
Успехи борьбы пролетариев за свои права были заметны в развитых странах с начала ХХ века по середину 1970-х годов. В США, например, за этот период доля национального богатства, которой владел самый богатый 1% граждан страны, сократилась с 41 до 17,8%. Однако в последние 40 лет облик современных экономик определяется масштабами скрытого в них творческого потенциала, а не способностью настаивать на выполнении своих финансовых требований.
Более 80% тех, кто входит в число 1% американцев с самыми высокими ежегодными доходами, — вовсе не капиталисты и не рабочие: они зарабатывают сами как программисты, ученые, адвокаты, врачи, дизайнеры, боксеры, эстрадные исполнители и т.д. Залог их успеха — индивидуальные достижения, а не способность к массовым акциям. Именно там, где такой индивидуализм допускается и даже приветствуется, возникают наиболее эффективные производства и проявляет себя технологический прогресс. И поэтому роль Дня труда девальвируется в обществе, где главным активом становится творчество. Более того, оказывается, именно работники, предлагающие рынку уникальные способности, могут зарабатывать больше, даже если они к этому не слишком стремятся. Я был бы рад ошибиться, но представляется, что потенциал для коллективной защиты интересов индустриального и сервисного пролетариата в нынешних условиях практически исчерпан.
Кто не работает, тот не ест?
В современном мире нельзя также не замечать нарастания разрыва между «интересами трудящихся» и левым движением в целом. В конце XIX века — в те годы, когда конгресс II Интернационала учреждал Первомай, — принципом социализма считалась формула «Кто не работает — тот не ест». Однако в современных условиях складывается впечатление, что своей задачей левые силы считают «социальную» поддержку тех, кто не утруждает себя общественно полезной деятельностью. В той же Франции с 1988 года практикуются выплаты так называемого RMI (revenue minimum d’insertion) — пособия в размере Є454/месяц на человека, которое может получить любой житель Франции (причем не только гражданин, но и легально проживающий в стране не менее пяти лет иностранец), достигший 25-летнего возраста либо имеющий детей. В 2013 году в самой Франции и ее заморских департаментах его получали 1,55 млн человек. «Антикапиталистические» движения сегодня все активнее защищают интересы нетрудящихся — пусть и не капиталистов, но людей, в значительной мере паразитирующих на труде других. И так как в основном на первомайские мероприятия во многих странах граждан выводят в первую очередь левые силы, вопрос о том, какие трудящиеся отмечают в этот день свой праздник, вряд ли имеет однозначный ответ.
Особенная страна
Россия и тут выглядит совершенно особенной страной. В значительной степени она остается обществом, которому очень далеко до современной постиндустриальной трансформации; где инициативность и интеллект ценятся, быть может, даже ниже, чем в Европе столетней давности; где основные состояния сделаны случайными людьми, которые обязаны ими близостью к представителям государственной власти; где, наконец, неравенство намного выше, чем в благополучных странах Западной Европы.
В таких условиях невозможно не ожидать в стране консолидированной левой оппозиции (а скорее левоцентристского правительства); массового профсоюзного (а в случае необходимости и забастовочного) движения; периодических жестких конфликтов между трудящимися и властью. Ничего подобного, однако, в нашей стране не наблюдается. Влиятельной социал-демократической партии (о фикциях типа КПРФ или «Справедливой России» я не говорю) в постсоветской России так и не сложилось. Официальные профсоюзы, руководимые своим нынешним лидером без малого четверть века, выглядят скорее «школой соглашательства», чем «школой коммунизма». И если в большинстве развитых стран первомайские торжества и лозунги выглядят все более оторванными от реальных жизненных задач, то в России они кажутся невероятно лукавыми и неискренними, даже более, чем политическая жизнь страны в целом.