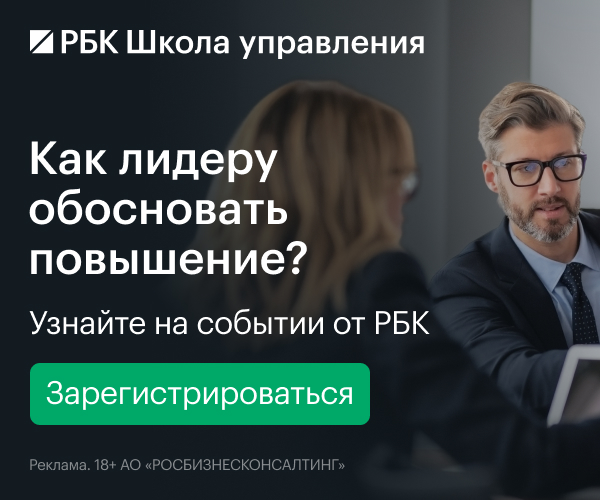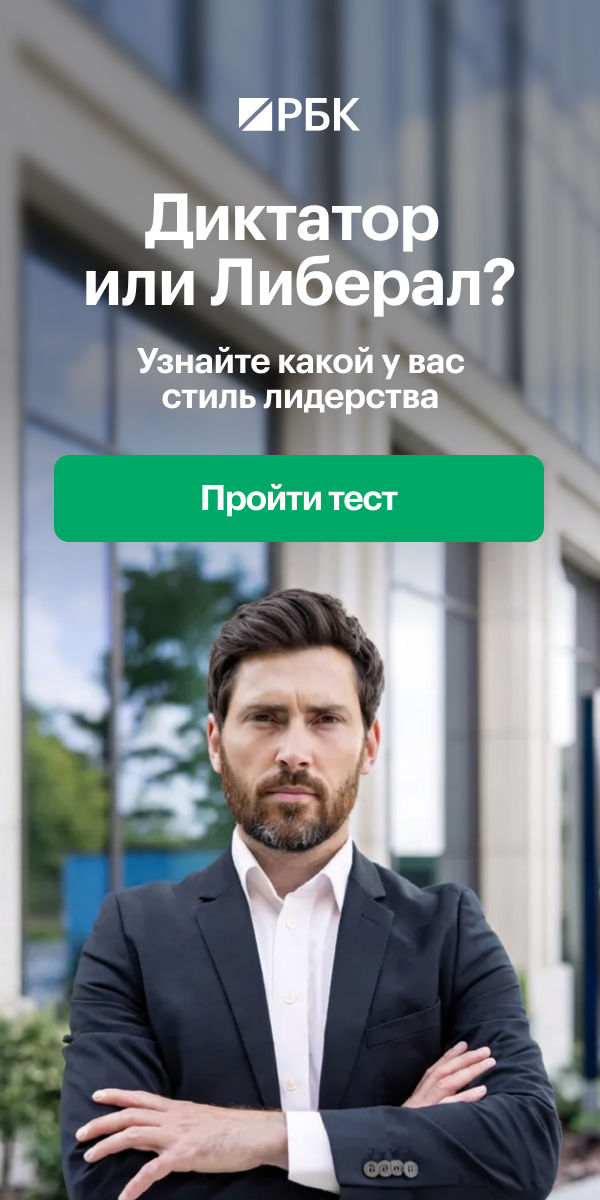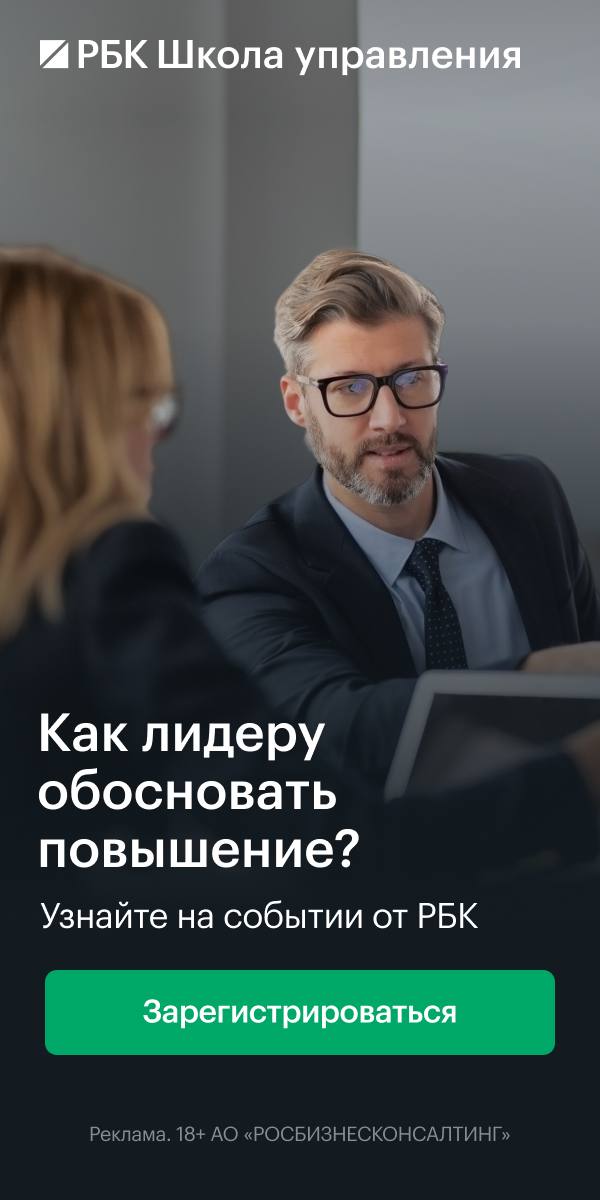Опасный прецедент: о чем говорят претензии «Роснефти» к РБК
Сразу стоит сказать, что норма о возможности возмещения нематериального вреда юридическому лицу (репутационного ущерба), в соответствии с которой подан иск «Роснефти», своего рода «падчерица» российского законодательства. В ситуации отсутствия прямого регулирования в законодательстве она была сформулирована в определении Конституционного суда 4 декабря 2003 года (определение №508 по жалобе гражданина Шлафмана В.А.). Суд сформулировал следующий подход, основанный на 45-й статье Конституции РФ: каждое лицо может защищать свои права любыми способами, не противоречащими закону, следовательно, юридические лица вправе обращаться за компенсацией нематериального вреда. Правда, не морального вреда, так как тела и души у юридических лиц нет, но есть деловая репутация, которая может пострадать, а значит можно требовать возмещения нанесенного ей ущерба. В целом данный подход является совершенно разумным и справедливым. В цивилизованном мире такой институт существует и успешно работает.
Вся российская практика по данной категории дел основана на этом принципиальном подходе. Ни в Гражданском кодексе, ни в других нормативных актах механизм возмещения нематериального вреда специальным образом не определен.
Как же в этом контексте выглядит сумма иска «Роснефти» — 3 млрд руб.? Очевидно — она является совершенно экстраординарной. Как правило, российские суды по сходным делам присуждают к выплате весьма незначительные суммы компенсаций. Из общего ряда серьезно выбивается лишь дело 2004 года по иску Альфа-банка к газете «Коммерсантъ»: там в итоге была присуждена компенсация в 40 млн руб., часть которой была взыскана именно за нанесенный нематериальный вред. В европейской практике также компенсации не выходят за предел десятков тысяч евро.
Свобода слова
Здесь необходимо вспомнить, что Россия является членом Европейской конвенции по правам человека, которую наша страна ратифицировала в 1998 году. Там есть ст.10 «Свобода выражения мнения», где говорится о пределах вмешательства государства в такую тонкую сферу, как свобода слова и свобода СМИ. В конвенции указано, что, конечно же, свобода слова не безгранична. ЕСПЧ, рассматривая жалобы на решения национальных судов по данной категории дел, отвечает на следующие вопросы. Первый: было ли вмешательство в свободу слова обусловлено законом? В нашем случае нормативная база действительно есть. Второй вопрос: преследовало ли вмешательство правомерные цели? Вот здесь все не так просто. Сам по себе иск о несогласии с опубликованной информацией, конечно, возможен. Но экстраординарный размер компенсации заставляет задуматься об истинных целях, которые он преследует, и последствиях для общества в случае его удовлетворения.
П.2 ст.10 конвенции говорит, что любое вмешательство должно отвечать одному важному критерию: было ли оно необходимо с точки зрения демократического общества? Так как в данном случае выплата заявленной по иску суммы с очень большой вероятностью приведет к банкротству серьезного делового издания, это создает крайне опасный для общества прецедент ликвидации популярного СМИ и, наверное, интересам общества не отвечает.
Решения ЕСПЧ являются частью нашей правовой системы, это определяется документами о присоединении России к конвенции. Да и российская Конституция, как известно, говорит о приоритете международного права. Правда, в 2015 году КС разрешил проверять решения ЕСПЧ на соответствие Конституции, но можно предположить, что этот шаг был связан с масштабным иском бывших акционеров ЮКОСа к России и не получит серьезного применения.
Кроме того, в нескольких документах Верховного суда и ВАС (постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года №3) подчеркивается, что возмещение ущерба по иску не должно приводить к банкротству СМИ. Следовательно, может быть решение об опровержении сведений и компенсации, но оно не может вызвать закрытия СМИ. Логика в том, что существование независимых СМИ — ценность для общества. Да, общество не заинтересовано в том, чтобы публиковалась недостоверная информация, но свобода слова ему нужна не менее этого.
Хочется заметить, что размер запрашиваемой компенсации не соответствует тем критериям, что содержатся в нашем законодательстве и европейской судебной практике. Она носит не компенсационный, а штрафной характер.
Проблема доказательств
Деловая репутация — экзотический цветок, который нашему человеку не слишком известен. Сколько она стоит? В развитых странах есть обобщающее понятие «гудвилл», который может быть выражен в деньгах. Возможно, «Роснефть» сформулировала сумму претензий исходя из своего понимания гудвилла. Но предъявляя подобное требование, любой истец должен серьезно подумать, как будет доказывать суду необходимость взыскания столь большой суммы. Суд должен установить, действительно ли пострадали нематериальные активы этой компании, учитывая ее известность и репутацию.
На мой взгляд, сомнительно, что публикация, о которой идет речь в иске, вообще имела негативный эффект для компании. Она скорее свидетельствует лишь о том, что руководство компании весьма влиятельно и может обращаться в правительство, отстаивая ее интересы. Эти действия с точки зрения компании направлены на благо государства. О какой негативной информации вообще идет речь? Разве там сказано, что компания пыталась повлиять на позицию правительства с помощью незаконных действий? На мой взгляд, это нейтральная или даже позитивная информация.
А отсюда следует важный вывод. В 2014 году в Гражданский кодекс были внесены поправки, которые позволили истцам требовать опровержения не только негативной, но и любой недостоверной информации. Могу привести пример из своей практики. Я был адвокатом одного крупного государственного чиновника. После отставки его стали часто задевать в СМИ, публикуя явно заказную и порочащую информацию. В одном деле в Савеловском суде речь шла о публикации, где утверждалось, будто он требует с некоего банка $850 млн. Судья делала вид, что не понимает, что нам не нравится в данном утверждении. Я объяснял, что есть закон о госслужбе, который запрещает клиенту заниматься бизнесом; кроме того, госслужащие и их родственники обязаны декларировать имущество. У моего доверителя такого имущества в декларации нет. То есть публикация в любом случае говорит, что либо он незаконно занимается бизнесом, либо занялся им сразу после отставки, что тоже незаконно (есть запрет на определенный период после ухода с госслужбы). Позиция суда заключалась в том, что само по себе упоминание о $850 млн не содержит ничего негативного.
Теперь закон позволяет опровергать любые недостоверные факты. Если я опубликую ложную информацию, что кто-то имеет три высших образования, он может обратиться в суд с иском и доказать, что образование у него только одно. Но важный нюанс: если опубликована негативная информация, то доказывать ее достоверность должен тот, кто опубликовал (например, СМИ); а вот если информация нейтральная или позитивная, то доказывать ее недостоверность должен сам истец. Если в рассматриваемом случае информация о работе «Роснефти» не является негативной, то доказывать, что это неправда и что компания не обращалась в правительство с просьбой ввести ограничения в процесс приватизации, должны представители компании.
Если же компания считает, что информация повлияла на ее нематериальные активы, то надо доказать, что повлияла, а не просто теоретически «могла повлиять». Понятно, что это очень сложно сделать, так как основной фактор, влияющий на акции «Роснефти», — это колебания цен на нефть. Должна быть использована методика оценки ущерба нематериальному активу, а в России такой методики практически нет. В деле «Коммерсанта» юристы Альфа-банка посчитали конкретные убытки от бегства вкладчиков и дополнительные расходы, которые понесли акционеры банка, чтобы остановить панику. В данном случае такой точный подсчет вряд ли возможен.
И еще одно. 3 млрд руб. — это в сотни раз больше, чем суммы, которые в среднем присуждаются по решениям российских судов, даже за гибель человека. Дополнительная причина считать подобное требование чрезмерным.