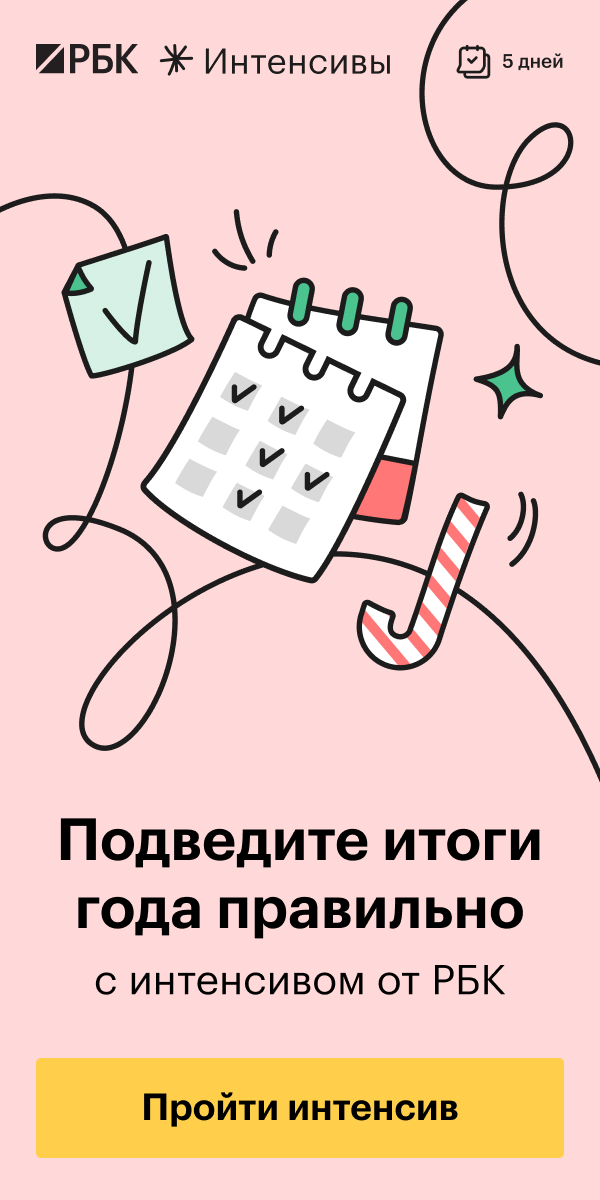Конец стабильности: чем французская «революция» 1968-го важна для России
Полвека тому назад, в майские дни 1968 года, на улицах Парижа и других европейских городов разворачивались события, подлинное историческое значение которых стало ясно далеко не сразу. Я не буду вдаваться в подробности всего тогда происходившего, однако хотел бы отметить несколько моментов, которые можно считать своего рода уроками «парижской весны» — в том числе и для нас.
Прошлое не работает
Первый и самый очевидный касается того, в какой мере в современном обществе бытие определяет сознание. В России принято считать, что народ до сих пор с ужасом вспоминает 1990-е и готов прощать все, что угодно, лидеру, который обеспечил «российское экономическое чудо». Однако тем, кто в этом убежден, нужно вспомнить французскую (и не только) историю того времени. К 1968 году со времени первых послевоенных лет с их разрухой и недоеданием прошло немногим больше 20 лет — практически столько же отделяет нас сегодня от самых трудных моментов первого постсоветского десятилетия. При этом непосредственно перед студенческими выступлениями в экономике не было никакого кризиса: напротив, средние темпы роста ВВП с 1954 по 1967 год составляли во Франции 5,36%, а в тоже пережившей волнения ФРГ — 6,17% (для сравнения: в России в 2004–2017 годах они едва достигали 2,9%). Французская экономика удвоилась всего за 14 лет, западногерманская — за 11. Сейчас это кажется нереальным, но безработица в 1966 году опустилась в Германии до 0,4% трудоспособного населения, а во Франции — до 1,3%.
Однако эти успехи достигались в первую очередь за счет экспансии массового индустриального производства, что вполне сочеталось с апологией социального консерватизма. Во Франции в конце 1960-х годов еще не были легализованы аборты, в школах практиковались телесные наказания, случаи домашнего насилия практически не расследовались. События 1968 года стали на этом фоне хрестоматийным примером того, что быстрый экономический рост, стремительное улучшение условий жизни и даже уверенное развитие социального государства не компенсируют отсутствия личных свобод в условиях, когда граждане, особенно молодые, чувствуют, что общество не меняется в соответствии с их ожиданиями. В России в последние годы мы также вступили в период, когда ресурс отсыла к прежним проблемным временам уже исчерпан, а свободы становится не больше, а скорее меньше.
Невечный лидер
Второй момент, разумеется, касается и личности лидера. Во Франции еще в середине 1960-х немногие относились к президенту де Голлю без того пиетета, который вызывали история его борьбы в «Свободной Франции», экономические реформы первых послевоенных месяцев, обновление всей французской политической системы при создании Пятой Pеспублики и даже тяжелое решение прекратить войну в Алжире и дать этой колонии независимость. Де Голль был в той же степени творцом существовавшего во второй половине 1960-х французского государства, в какой Владимир Путин является создателем современной российской политической идентичности. В декабре 1965 года, за два года до начала студенческой революции, он переизбрался на второй семилетний срок, который сам и установил для себя в 1958-м — и практически ничего не свидетельствовало о том, что народ разлюбил стабильность.
Однако к маю 1968-го де Голль находился у власти с перерывами и в разных позициях почти 13 лет, а в высшем эшелоне французской политики — более 20; его способность к восприятию перемен расценивалась как крайне низкая. Перспектива очередного долгого правления во многом стала катализатором уличной политики, лозунгом которой оказались слова: «Будьте реалистами — требуйте невозможного». Свобода самовыражения, стремление отторгнуть государственную регламентацию и отжившие свое социальные институты оказались сильнее опасений хаоса и даже гражданской войны — и в следующем 1969-м, когда престарелый президент выдвинул изменившемуся обществу ультиматум в виде общенационального референдума о реформе власти, он уже не мог рассчитывать на поддержку. Так революция 1968-го показала, что стабильность — это продукт, имеющий свой срок годности, и она не может быть привлекательной вечно.
Дух перемен
Третий момент, мимо которого тоже трудно пройти, — это обусловленность одних социальных перемен другими и их синхронизация в глобальном масштабе. 1960-е годы стали периодом массовых социальных движений, целью которых во всем мире выступали свобода и равенство. Под лозунгом первой прошла деколонизация, утвердившая право бывших зависимых народов на суверенитет и равноправие с прежними метрополиями. Под знаком второго развернулась борьба за гражданские права в Соединенных Штатах, которая уверенно раздвигала «границы возможного» не только в отношении расовых меньшинств, но также женщин и молодежи. Традиционная «культура» распалась на элементы, на субкультуры, в рамках которых появились свои правила и нормы. На все это наложилась «сексуальная революция», ускоренная новыми возможностями контрацепции, но порожденная безусловным отторжением прежних культурных кодов. И это происходило тогда, когда масс-медиа оставались контролируемыми государствами (как французские телеканалы, жестко цензурировавшиеся правительством), а массовые контакты между гражданами разных стран только еще начинались.
Сегодня, в условиях полной информационной взаимосвязанности, уповать на «духовные скрепы» в мире, отрицающем всякие прежние условности, могут только предельно недальновидные политики. Власть может контролировать политические и иногда также экономические рычаги, но события 1968 года показали, что представления о способности поддерживать старый «нравственный порядок» — самый большой самообман, в плену которого только могут находиться политики. В эпоху интернета, полной личной свободы, гомосексуальных браков и всеобщего нигилизма такая политика бесперспективна.
Перезагрузка системы
Наконец, стоит сказать несколько слов и о том, какие последствия имели события 1968 года. Сами по себе они стали триумфом «антисистемности»: молодежь выступала против старой морали и правил, рабочие инициировали стачки вопреки позиции профсоюзов; все вместе они выносили вотум недоверия властям и существующей экономической модели. Однако движение, казавшееся антикапиталистическим, на деле привело скорее к формированию более развитой рыночной системы, чем к старту какого-то социалистического эксперимента. Выбор 1968 года — это выбор между равенством и свободой, и какими бы словами и лозунгами он ни прикрывался, он был сделан в пользу свободы, а не равенства.
Эта свобода в следующие десятилетия обусловила появление новой экономической модели, основанной на информационной революции и новой «политической религии», в основе которой оказалась доктрина прав человека. Именно с этого времени пути Запада и Востока, в ХХ столетии многократно пересекавшиеся, разделились: в первом вскоре возобладали принципы неоконсерватизма, а во втором общества свалились в застой-кóму. В этом отношении события 1968 года предопределили будущую победу Запада в глобальном противостоянии с Востоком. И это означает только одно: общества, которые игнорируют сигналы, свидетельствующие о формировании новых социальных практик, обречены.
Возможный урок
Собственно, сказанного вполне достаточно для того, чтобы провести очевидные параллели с происходящим в России. Сегодня напрашиваются сравнения не с Советским Союзом 1984 года, каковые сравнения безосновательно производят многие американские кремленологи, а с Францией 1966-го. Так же как и там в те годы, в России очевидно исчерпывается мобилизующая сила воспоминаний о когда-то пережитых тяжелых годах и ощущений драматически возросшего благосостояния. Приблизительно так же, если не сильнее, на сознание граждан давит перспектива шести лет «без права на перемены». Протест так же сосредотачивается в молодом поколении, которое не видело в своей жизни России без Путина и инстинктивно хочет таковую увидеть — причем, может, и не из-за глубокого несогласия с политикой президента, а просто потому, что не встречать перемен в окружающем обществе по мере собственного взросления противно человеческой природе.
Конечно, никакие исторические аналогии не могут выступать доказательством правильности тех или иных гипотез — и поэтому не стоит ждать скорого повторения в России «парижской весны»; однако некоторые черты сходства социальных ожиданий тогда и сегодня настолько разительны, что не замечать их было бы по крайней мере неосмотрительно.