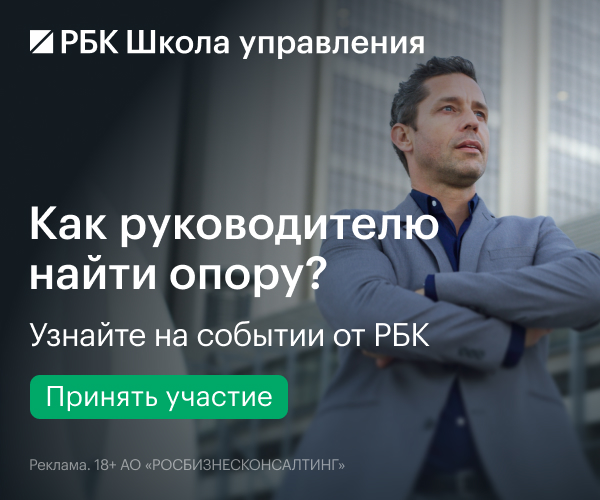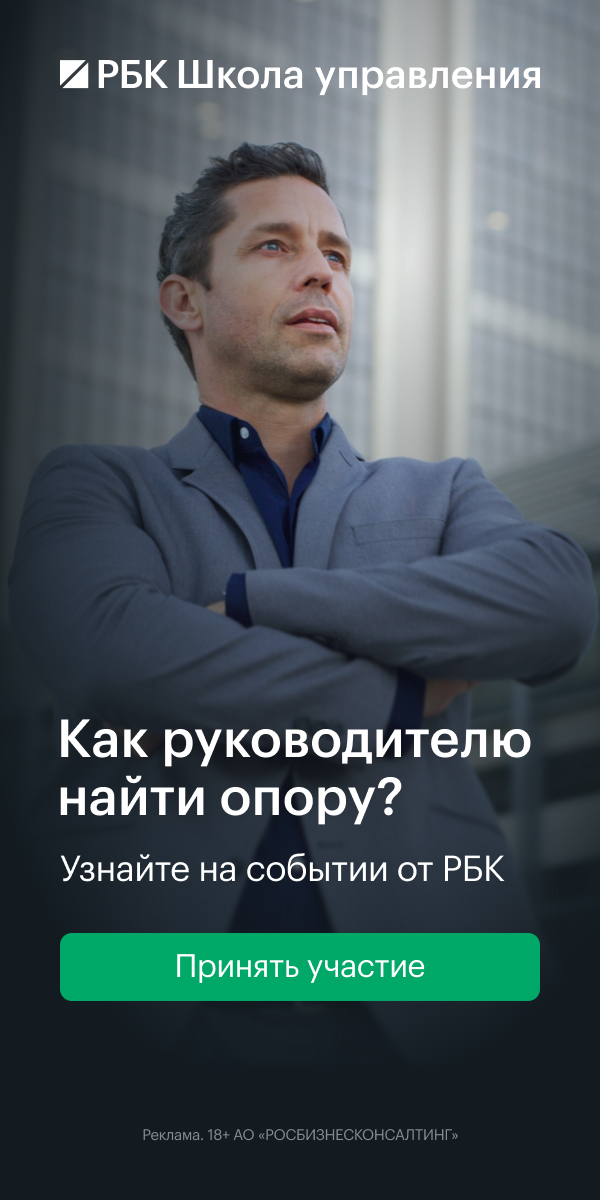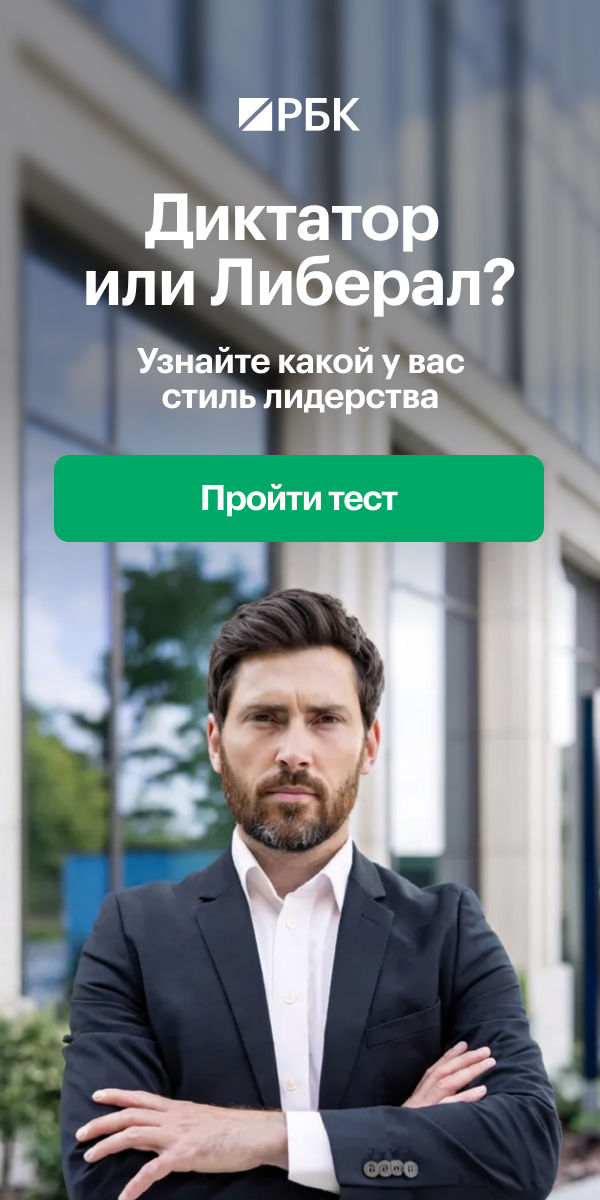Эксперт не нужен: почему стал возможным новый иск «Роснефти» к «Системе»
Иск «Роснефти» к АФК «Система» с требованием взыскать дивиденды «Башнефти», выплаченные с 2009 по 2014 год в размере 131,6 млрд руб., появился уже под конец 2017-го. На протяжении года мы наблюдали судебный процесс по предыдущему иску «Роснефти» к холдингу Владимира Евтушенкова. В том случае суд постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб. за ущерб, якобы нанесенный «Башнефти» во время реорганизации этой компании в 2014 году.
Проблема компетентности
Не факт, что это последний правовой кульбит в этой истории, которая, возможно, направлена на разорение одной из крупнейших частных компаний России. О данном деле много сказано, но я хочу отметить едва ли не главную проблему — возможность объективных решений по экономическим делам при том отношении к экономической экспертизе, которое есть у российской судебной системы.
Вопрос этот важен и для старого, и для нового иска «Роснефти». Ведь, как сообщается в пресс-релизе компании-истца: «Требования по возвращению средств, выведенных в форме дивидендов, логично вытекают из решения суда первой инстанции, в котором ответчик признается недобросовестным акционером». То есть логика, которая принесла «Роснефти» успех в первом процессе, воспроизводится и в этот раз. Отдельно стоит отметить, что новые требования истцов опираются на правовые выводы, содержащиеся в не вступившем в силу решении Арбитражного суда Республики Башкортостан.
В процессуальном законе закреплены принципы равноправия сторон и состязательности процесса. Из этих принципов вытекает обязанность каждого доказывать те обстоятельства, которые он указывает как основание своих требований или возражений. Очевидно, что независимый и беспристрастный суд должен обеспечить сторонам необходимые возможности для доказывания. В экономических спорах важнейшим вопросом часто является требование о возмещении убытков.
Легко рассуждать об этой одновременно юридической и экономической категории, если речь идет о единичных объектах собственности и несложных отношениях сторон. Совсем другое дело, когда в суд попадает иск о многомиллиардных убытках и в процесс вовлекаются большие и сложно устроенные компании.
Здесь можно вспомнить иск к норвежскому телекоммуникационному холдингу Telenor со стороны безвестного офшора — требования составляли $3,8 млрд, или иск еще более безвестного миноритария ТНК-BP Андрея Прохорова к мировому гиганту BP на $13,6 млрд.
Понятно, что в сложных экономических делах судья сталкивается с проблемой собственной компетентности. Ни государство, ни закон, ни здравый смысл не предполагают, что судья должен быть специалистом во всем. Есть много областей знаний, где можно стать специалистом, только посвящая им большую часть своего времени. Способом получения ответа на специальные вопросы как раз и является экспертиза. Важно отметить и формальный момент: эксперт — это физическое лицо или организация, получившие государственное признание квалификации в определенной области в виде специальной лицензии.
Выбор экспертного учреждения, круг и содержание вопросов в конечном счете определяются судом. Но, посмею утверждать, права суда не абсолютны. Там, где суд не обладает необходимыми знаниями, и в случае ходатайства одной из сторон дела экспертиза должна быть назначена. Это уже не право суда, а обязанность, и отказ в назначении экспертизы является грубым нарушением закона, так как лишает участника процесса возможности доказать свою правоту.
Во всех рассматриваемых примерах суды проявляли весьма вольное отношение к праву сторон требовать назначить экспертизу. Во время рассмотрения первого иска «Роснефти» к «Системе» суды первой и второй инстанции отказались назначить ее, хотя в качестве экспертов предлагалось привлечь аудиторские компании «большой четверки». Совсем недавно, 4 декабря, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске уже в ходе рассмотрения апелляционной жалобы «Системы» отказался удовлетворить ходатайство ответчика о назначении финансовой экспертизы.
Сегодня необоснованные отказы судов в проведении экспертизы, даже по крупнейшим делам с повышенным общественным вниманием, стали сложившейся практикой. Конечно, экспертиза — это лишь один из видов доказательств, но часто только она может дать всеобъемлющий и профессиональный ответ на вопрос, от которого зависит объективность будущего решения.
На протяжении всего процесса «Роснефти» против «Системы» речь неоднократно заходила о мировом соглашении. О том, что неплохо бы договориться, говорят даже в Кремле. Но соглашения нет и пока не предвидится. По данным судебного департамента Верховного суда, в среднем в России ежегодно рассматривается порядка 1,5 млн арбитражных споров. Знаете, сколько из них заканчивается мировым соглашением? Примерно 35 тыс., то есть около 2%. В США эта доля приближается к 30%. И одна из главных причин — развитый институт экспертизы. Когда есть уверенность в том, что решение суда будет законным и справедливым, то есть понятно, какое решение при наличии данной экспертизы вынужден будет принять судья, сторонам нет смысла продолжать спор и нести немалые судебные издержки.
2017 год заканчивается под знаком ожидания судебной реформы. Хотя важнейший ее документ — Концепция судебной реформы — был принят в далеком октябре 1991 года еще Верховным советом РСФСР, сформулированные тогда задачи — сделать суд справедливым и объективным — остаются невыполненными. Смысл изменений должен быть и в том, чтобы сделать обязательным использование тех инструментов, которые уже есть у суда. Факт, что сейчас суд не пользуется ими или пользуется в произвольном порядке, — это и есть одна из основных проблем нашего правосудия.