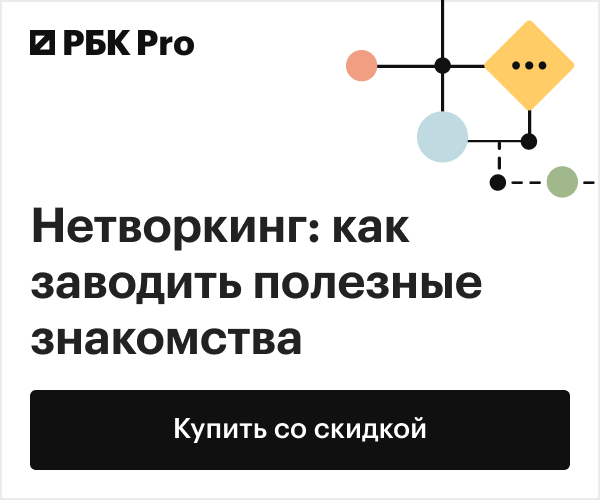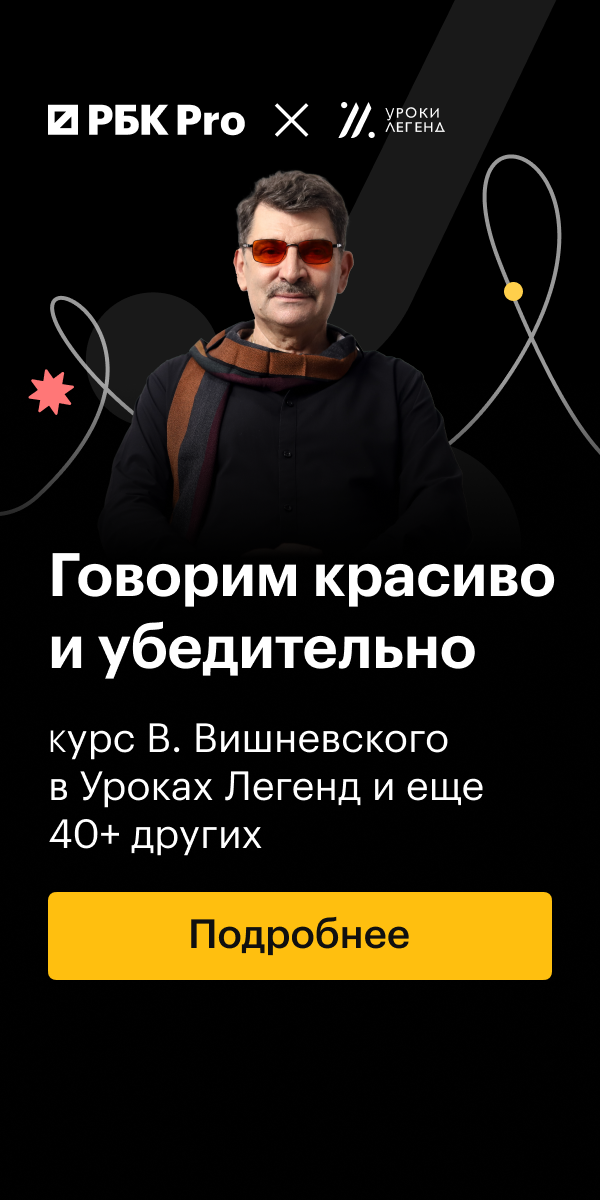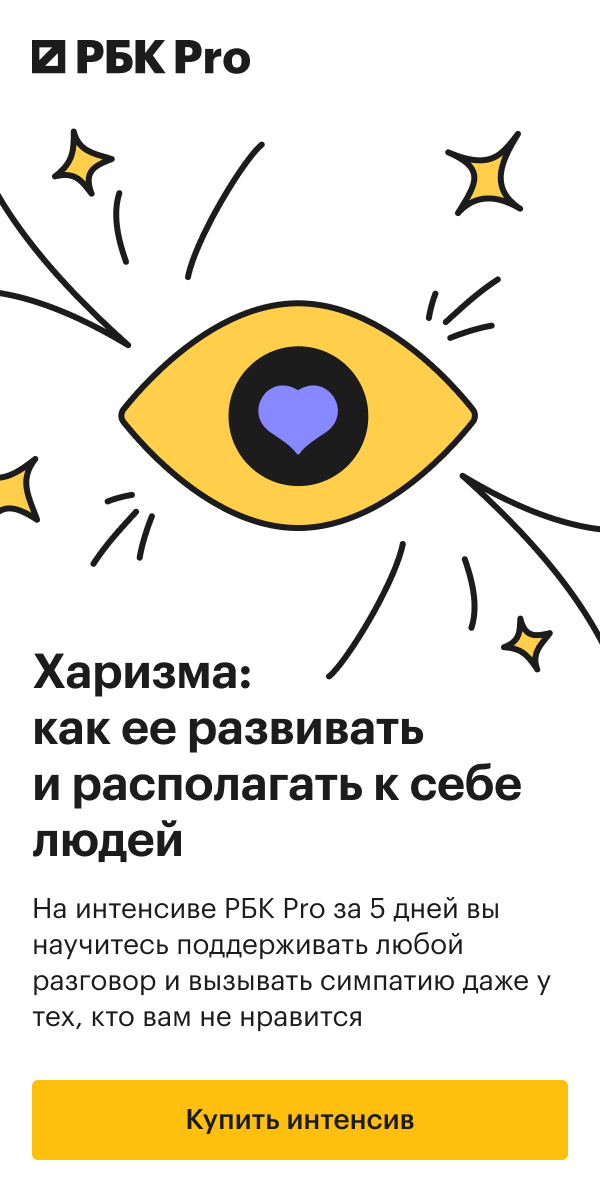Звонок из времен Карибского кризиса: как не начать новую гонку вооружений
«Звонили 1960-е, — грустно иронизировала известный американский эксперт Ольга Оликер, — просили вернуть им назад их ядерные стратегии». Это было в январе 2018 года, во время экспертного обсуждения нового Обзора ядерных сил США, повышавшего роль ядерного оружия во внешней политике. Изюминкой документа была приписываемая России стратегия «эскалации с целью деэскалации», согласно которой Москва якобы планировала нанести ядерный удар малой мощности в ходе локального конфликта, чтобы выйти из него на выгодных для себя условиях. Для того чтобы иметь возможность ответить на предполагаемую стратегию России, Пентагон запланировал разработку двух новых ядерных систем малой мощности.
Несмотря на то что аргументы в пользу существования деэскалационной стратегии Москвы не очень убедительны, в личных беседах американцы объясняли: «У нас были планы ограниченного применения ядерного оружия в Европе во время холодной войны, так что было бы логично, если бы они были и у вас». С усилением противостояния между Россией и Западом наследие полувековой давности становилось все более актуальным. Западные эксперты и военные смахнули пыль со старых военных карт, заменили Фульдский коридор на границе ГДР и ФРГ на Сувалкский коридор на польско-литовской границе и принялись готовиться отражать российские танки на новых рубежах.
Проблема уязвимости
Когда президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта продемонстрировал целый ряд новых видов ядерных вооружений, включая ядерную торпеду, крылатую ракету с ядерной силовой установкой и планирующий крылатый блок для баллистических ракет, ни сами системы, ни стратегическая задача, которую они были призваны решить, тоже не оказались принципиально новыми. На повестке дня — классическая холодная война.
За 40 с лишним лет ядерного сосуществования США и СССР смогли выработать систему стратегической стабильности, основанную на гарантированном взаимном уничтожении. Если ни одна из сторон не может уничтожить ядерные силы другой в ходе первого удара, ядерная война становится бессмысленной, поскольку уцелевших в ней не будет. Но для стабильности системы была необходимая взаимная уязвимость, и Москве, и Вашингтону требовались средства доставки ядерного заряда на территорию противника, которые могли бы преодолеть необходимое расстояние и избежать систем защиты противника (в итоге эта необходимость привела к заключению Договора о противоракетной обороне 1972 года, ограничившего эти системы). Наиболее успешным инструментом для этого оказались межконтинентальные баллистические ракеты (новый представитель этого семейства «Сармат» был продемонстрирован в послании президента), но встречались и более экзотичные варианты.
В 1950–1960-е годы Советский Союз активно разрабатывал торпеду с термоядерным зарядом в рамках проекта Т-15. Москва не располагала баллистическими ракетами для подводных лодок, советские бомбардировщики с трудом могли достигнуть США, где стали бы легкой добычей ПВО. Поэтому рассматривалась доставка ядерной боеголовки при помощи торпеды, в идеале автономной, использующей атомную силовую установку, и максимально мощной, способной выводить из строя порты противника. Судя по выступлению президента и интервью главкома ВМФ Владимира Королева, в отличие от СССР России удалось разработать подходящую энергетическую установку для автономного плавания торпеды.
Идея крылатой ракеты с ядерной силовой установкой тоже не нова. В 1950–1960-е годы США разрабатывали проект низковысотной сверхзвуковой ракеты с ядерным двигателем и практически неограниченным запасом хода. Подобная концепция выглядела более защищенной по сравнению с достаточно сырыми баллистическими ракетами, но от нее в итоге отказались: отчасти из-за сложности системы, отчасти потому, что ядерная силовая установка загрязняла воздух радиоактивными отходами даже в ходе испытаний. Можно предположить, что на современной российской крылатой ракете последняя проблема решена, скажем, за счет использования непрямого воздушного цикла.
С развитием и наращиванием количества МБР и ограничением систем ПРО необходимость в подобных проектах отпала, но затем снова возникла с началом разработки США программы Стратегической оборонной инициативы, противоракетной обороны с элементами космического базирования. Одним из советских ответов на разработки Вашингтона стал в конце 1980-х годов проект межконтинентальной баллистической ракеты с планирующим крылатым блоком «Альбатрос». Наработки «Альбатроса», не завершенные из-за конца холодной войны, по-видимому, легли в основу новейшей системы «Авангард», способной совершать полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность и совершать маневры для обхода ПРО.
Таким образом, гонка защиты и нападения периодически возникала на протяжении истории ядерных отношений России и США. После выхода Вашингтона из договора о ПРО в 2002 году и развития противоракетной обороны США в Европе Москва неоднократно предупреждала, что будет принимать меры по преодолению противоракетной обороны. США в целом принимали это условие, заявляя, что их система ПРО не направлена против России, не сможет и не должна ограничивать возможности российских стратегических сил.
Несоразмерный ответ
И все-таки подобной презентации никто не ожидал. Даже с учетом, что новые системы из-за их большой разрушительной силы действительно предназначаются в первую очередь для сдерживания, а не ведения войны (привет американским экспертам, построившим новую ядерную стратегию на угрозе применения тактического оружия в Восточной Европе — в Москве этот документ явно внимательно читали). Даже учитывая, что эти системы не нарушают существующие договоры о контроле над вооружениями (крылатая ракета сухопутного базирования могла бы попасть под Договор о РСМД, если бы не ее дальность, превышающая 5500 км). Пять новых стратегических систем доставки ядерного оружия выглядели несоразмерным ответом на ПРО Соединенных Штатов. Все-таки ни несколько десятков ракет-перехватчиков на территории США, ни системы «Иджис», развернутые в Румынии и разворачиваемые в Польше, ни даже перспективные разработки Вашингтона не представляют реальной угрозы даже для существующих полутора тысяч зарядов на стратегических носителях, которыми обладает Россия, не говоря о любой из новых систем.
Конечно, отчасти речь Владимира Путина была обращена к внутренней аудитории. Презентация включила в себя системы разной степени готовности (насколько можно судить, крылатая ракета и торпеда находятся на относительно ранней стадии разработки), объединенные вместе желанием показать, чего добились вооруженные силы при нынешнем президенте. Но было в речи президента и явное обращение к руководству Запада признать российские озабоченности и «садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации». Помимо вопросов о системах ПРО у России к Западу сохраняется много других, включая размещение оружия в космосе, высокоточное неядерное оружие и Договор об РСМД. За столом переговоров новые российские системы могут оказаться козырями, способными добиться уступок в интересующих Москву сферах. В свое время понимание невозможности достижения преимущества в гонке вооружений привело сначала к переговорам об ограничении ядерных арсеналов, а потом и к их сокращению.
Вызов для Трампа
Правда, есть в истории и более тревожные уроки. Для того чтобы понять, что гонка вооружений бессмысленна, миру пришлось сначала в ней поучаствовать, несколько раз оказавшись на грани ядерной войны. И запустить подобную карусель значительно проще, чем ее остановить. Архивные материалы свидетельствуют, что ни президент Кеннеди, ни президент Джонсон не были сторонниками значительного наращивания ядерных арсеналов, но продолжали идти на это, будучи заложниками ожиданий общества, конгресса, союзников и военно-промышленного комплекса. Президент Трамп, заявлявший, что американские силы должны быть лучшими в мире, и обозначавший свою готовность к гонке вооружений, может отнестись к вызову с энтузиазмом. Американское общество, уже напуганное «российской угрозой», может поддержать эту стратегию.
В этой ситуации ключевым становится возобновление российско-американских переговоров о контроле над вооружениями. И здесь упущенной возможностью выглядит перенос российско-американских консультаций по стратегической стабильности, запланированных на 6–7 марта в Вене. Даже если предположить, что в этом есть определенная логика и американские эксперты просто не были бы готовы предметно обсуждать вопрос с учетом презентации новых российских систем, новая дата должна быть согласована в ближайшее время и не должна увязываться с другими сферами межгосударственных отношений.
В ближайшее время также можно ждать запроса со стороны США на созыв Двусторонней консультативной комиссии в рамках статьи V действующего Договора об СНВ в связи с появлением «нового вида стратегического наступательного вооружения». Россия должна использовать эту возможность для начала предметного разговора с США о продлении ДСНВ на следующие пять лет и обсуждения формата следующего договора о стратегических вооружениях с учетом новых российских возможностей.