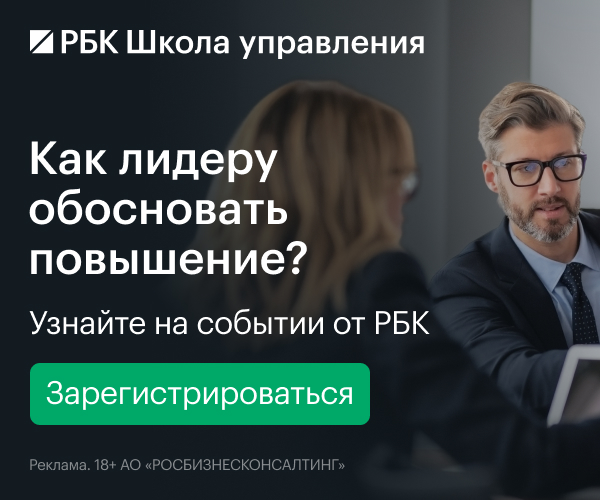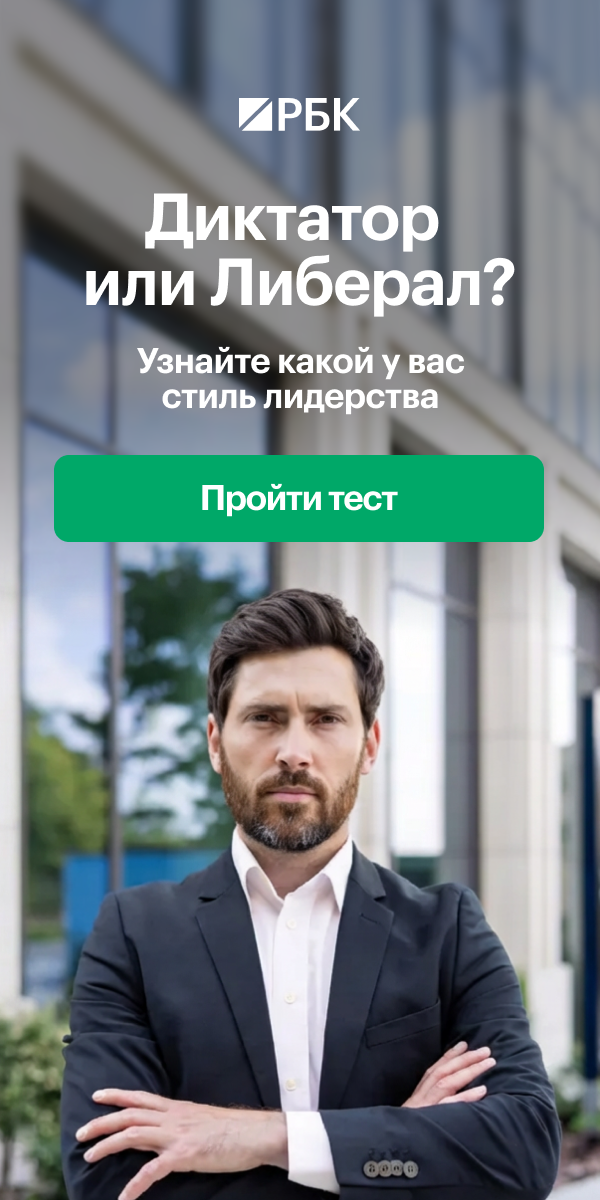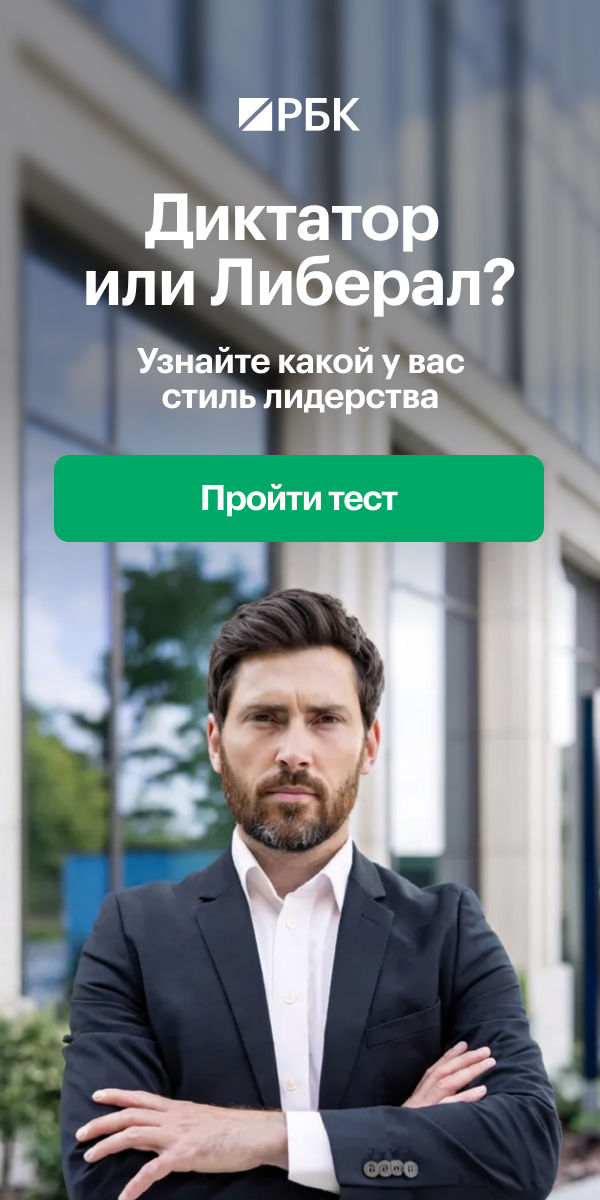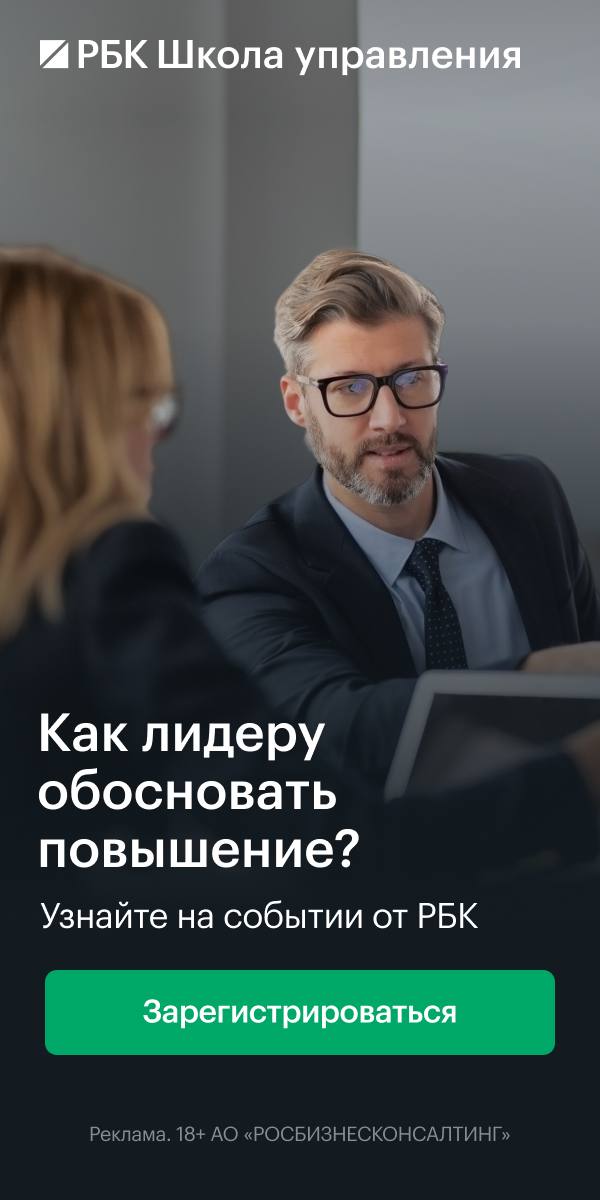«Правильно — торговать и сотрудничать со всеми»

Импортозамещение — это не закрытие рынка, иногда лучше производить хорошее зерно, чем плохие автомобили, рассуждает в интервью РБК известный экономист, ректор Академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимир Мау.
«Нет такой ситуации, при которой невозможен вариант еще хуже»
— Правительство и президент считают, что пик кризиса пройден, разделяете оптимизм российских властей? С учетом того, что некоторые макроэкономические показатели — заработные платы и розничный товарооборот, к примеру, сократились максимально с 1999 года в годовом выражении.
— Все зависит от того, что называть «пиком кризиса». Хотя, конечно, точнее было бы говорить о «дне», а не о «пике». Завершается ли спад? Скорее всего, да, но при определенных ошибках в экономической политике падать можно и дальше. Сразу оговорюсь, что нет такой ситуации, при которой невозможен вариант хуже и еще хуже. Но не будем рассматривать этот сценарий, поскольку действующее правительство продемонстрировало, что в тяжелой экономической ситуации оно действует ответственно и не принимает опасных популистских решений.
Спад практически остановлен во многих отраслях материального производства, о чем говорят ежемесячные изменения [соответствующих показателей], но не в секторе услуг. И это вполне понятно: в условиях «голландской болезни» хорошо себя чувствуют неторгуемые сектора — услуги, строительство, то есть те, в которых нет конкуренции с импортом — а спрос на них растет. Но они же страдают, когда спрос резко снижается. Производственные сектора более чувствительны к валютному курсу, в большинстве из них действительно начинает работать механизм импортозамещения. В большинстве производственных отраслей падение было летом, в мае—июле, а в секторе услуг ситуация еще достаточно плохая.
— Какие статистические показатели вызывают у вас тревогу?
— Нестабильность валютного курса, подчеркну — не низкий и не высокий, а нестабильный. Российская экономика вполне готова адаптироваться и эффективно функционировать при разном валютном курсе. Но когда он значительно меняется в течение коротких промежутков времени — это вещь крайне неприятная. Как и вообще любая нестабильность.
Валютный курс колеблется в силу неопределенности внешнеэкономических факторов — цен на нефть и других. И это является самым неприятным. Курс и цена на нефть более предпочтительны пусть любые, но стабильные. Потому что дальше мы можем следовать понятной логике — при стабилизации курса появляется возможность стабилизировать инфляцию, дальше снизить ставки. И тогда при прочих равных условиях начинается экономический рост. Но если курс падает — растет инфляция через так называемый эффект переноса. Если цена на нефть растет и курс укрепляется, начинается «голландская болезнь» [негативный эффект, оказываемый укреплением влияния курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики] — та же инфляция в силу притока валюты и высокие процентные ставки.
Стабильность валютного курса чрезвычайно важна. Значит ли это, что нужно зафиксировать валютный курс? Конечно, нет. Потому что это чревато — либо разрушением рыночной экономики, либо потерей резервов.
— Кстати, еще пару лет назад вы считали, что в России есть «голландская болезнь»...
— Пару лет тому назад она была. «Голландская болезнь» — это укрепление валютного курса, не связанное с производительностью труда. Если останавливается приток конъюнктурных, то есть не связанных с ростом производительности доходов, то уже нет и «голландской болезни».
— Но производительность труда все равно не растет.
— У нас ситуация с внутренним производством лучше, чем с импортом. Вы не согласны?
— Не могу найти для себя ни одной неимпортной вещи...
— Ну, это же вопрос не краткосрочной перспективы. Было бы странно считать, что развитая экономика будет реагировать на изменение конъюнктуры немедленно. Есть временные шаги. Конечно, реакция в 1999 году была очень быстрой. Но не будем забывать, что тогда ВВП снизился на 40% и в стране были существенные незадействованные производственные мощности и рабочая сила, сейчас всего этого нет, а импортозамещение требует инвестиций.
Да и не все отрасли обречены на конкурентоспособность. В некоторых будет преобладать импорт, закупаемый на средства от экспорта. И будет возможность, к примеру, продавать зерно и покупать на эти средства товары легкой промышленности. Знаете, есть старая экономическая фраза о наличии двух способов производства американских автомобилей — чикагском и айовском. Чикагский — это когда автоконцерны производят американские автомобили в Чикаго. А айовский — это когда айовские фермеры продают зерно и на эти деньги покупают японские автомобили. В общем, и то и другое с точки зрения современной экономики вполне достойно. Если японские автомобили лучшего качества и дешевле, а зерна вы можете производить сколько угодно, то чем это хуже, чем производство плохих автомобилей.
— А вы вообще верите в идею импортозамещения?
— Во-первых, оно происходит.
— Только в сельском хозяйстве и в секторе продуктов питания.
— Импортозамещение как лозунг дня обсуждать бессмысленно. Это нужно обсуждать с политологами. Импортозамещение как стремление производить некоторую конкурентоспособную продукцию — это возможно. Так же было в 1998 году. А куда деваться-то, если у вас резко сокращаются рентные доходы? Население должно что-то потреблять — либо товары собственного производства, либо импортные товары, но для приобретения импорта необходимо что-то производить на экспорт.
Настоящее импортозамещение — это производство конкурентоспособной продукции, то есть способной продаваться в мире. Экспорт — важный критерий импортозамещения, которое нельзя путать с закрытием рынка и навязыванием отечественному потребителю дорогой продукции низкого качества.
— Какие сектора отвечают таким условиям?
— Отвечать могут любые.
— То есть пока их нет?
— Это длительный процесс. В 1999 году реакция была достаточно быстрой, но тогда не решалась задача структурной реформы экономики. Сейчас мы живем в мире, который сильно отличается от XIX и XX веков тем, что это мир передовых предприятий, а не отраслей. Нет заведомо передовых и отсталых отраслей. Есть передовые и отсталые технологии и предприятия.
«У нас «единство партии и народа», о котором и не мечтали советские лидеры»
— Низкая цена на нефть — это катализатор развития?
— При прочих равных условиях, да. Все экономисты соглашались, что модель экономического роста первого десятилетия XXI века была исчерпана к началу глобального кризиса — причем это совпало с началом кризиса, а не стало его результатом. Экономика упала в 2009 году, потом выросла до уровня 2008-го, затем рост резко замедлился. Это не про санкции. Модель, основанная на рентных доходах, резервных мощностях и стимулировании спроса, была исчерпана. К 2008-му у нас не осталось ни резервных мощностей, ни способности при дальнейшем укреплении курса производить конкурентоспособную продукцию в отдельных отраслях.
— Насколько продолжительным должен быть период низких цен на нефть, чтобы прежняя модель выветрилась из сознания? Ведь все равно все ждут возврата высоких цен на нефть.
— По-моему, сейчас уже нет. Я не хочу сказать, что рентная модель плоха, но если вы посмотрите на Норвегию, которая является нефтегазопроизводящей страной, то она не сталкивается с такими проблемами, как мы, а в Венесуэле и Саудовской Аравии они гораздо серьезнее, чем у нас. Почему? Норвегия выводила всю нефтяную ренту из экономики, Россия — частично, а Венесуэла не выводила. В итоге в Венесуэле ситуация гораздо хуже, в России так себе, а Норвегия практически не испытала шока от падения цен на нефть.
На самом деле и политика правительства в условиях высоких рентных доходов более сложная. Только на первый взгляд кажется, что легче управлять, когда денег много. Легче управлять, когда денег достаточно. К примеру, Егор Гайдар [министр финансов РСФСР и России в 1991–1992 годах] считал, что ему было проще, чем Алексею Кудрину [министр финансов в 2000–2011 годах]. Потому что объяснять, что денег нет, когда их действительно нет, гораздо проще, чем объяснять, что денег нет в силу ряда макроэкономических соображений, для обеспечения стабильности в будущем, когда все знают, что деньги есть.
— Насколько корректны аналогии с низкими ценами на нефть в конце 1980-х годов, когда баррель стоил $12–19, учитывая запас прочности системы СССР и нынешней системы?
— Сейчас запас прочности, конечно, существенно выше. Российское руководство в 2000-е годы учло опыт 1980-х годов, сейчас российская экономика более гибкая, в частности, в плане валютного курса и ценообразования. Мы все-таки накопили определенный опыт управления в условиях «голландской болезни». У нас очень низкий долг, есть резервы. И все-таки есть «морально-политическое единство партии и народа», о котором не могли мечтать советские лидеры. Его, конечно, нельзя переоценивать, но надо понимать, что выросло целое поколение, которое считает, что порядок и стабильность — это хорошо.
— Вы упомянули наличие резервов. Так ли важно сейчас их беречь? Есть точка зрения, что их нужно пускать на стимулирование экономического развития. Когда Резервный фонд создавался, шла дискуссия о том, что нельзя эти деньги «закапывать», что они должны работать. Сейчас тезис иной — нужно сохранить резервы.
— Мы не можем повторить норвежский опыт, и резервы у нас становятся подчас источником популизма, а не развития. Может быть, если цены на нефть когда-нибудь снова будут высокими и у нас снова начнется «голландская болезнь», то лучше не формировать фонд, а разделить бюджет на бюджет текущих обязательств и бюджет развития, прежде всего нужны инвестиции в инфраструктуру. Впрочем, на самом деле можно вкладывать в инфраструктуру, а можно понижать налоги.
— А лучше, наверное, и то и другое делать — сочетать бюджетные инвестиции со стимулированием частных...
— Важно также заниматься государственными инвестициями в образование и здравоохранение. Необходимость же увеличения бюджетных инвестиций — вопрос, имеющий право на существование. Но это опять-таки вопрос очень конкретных обстоятельств институциональной среды. Вместе с тем существуют понятные ограничения на уровень бюджетных расходов. Можно ли сейчас заниматься раздуванием бюджетного дефицита? Это означало бы пойти по пути Советского Союза. У нас кризис своеобразный, который характеризуется высокой инфляцией, спадом при отсутствии роста безработицы. Это очень нестандартная ситуация. И она неблагоприятна для частных инвестиций. Если инфляция двухзначная, то инвестор не склонен делать долгосрочные инвестиции. Сколько бы ни говорили, что сейчас построят заводы, фабрики. Ведь никто не знает, а будет ли спрос на эту продукцию.
Для того чтобы сейчас начался инвестиционный процесс, необходимы экономическая стабилизация и обеспечение целого ряда внеэкономических факторов — прежде всего обеспечение безопасности личности и собственности. А самое опасное сейчас — заняться стимулированием роста через рытье котлованов, прокладывание трасс не пойми куда и так далее... Словом, погоня за цифрами роста ценой качества роста.
— Еще вопрос о присутствии государства в экономике: большое число госкомпаний — благо или нет?
— Должно выживать то, что более эффективно.
«Мы обречены долго — поколения — жить с низким госдолгом»
— Сейчас идет работа над Стратегией-2030, стратегии социально-экономического развития России на ближайшие 15 лет. Кудрин говорил, что предыдущая Стратегия-2020 была выполнена лишь на четверть. Есть гарантии того, что новый документ не постигнет та же участь?
— У меня недавно состоялся разговор с одним руководителем, который говорил, что нам нужна Стратегия-2030, которая была бы не такая, как Стратегия-2020. Оказалось, что она его не устраивает, поскольку не выполнена. Между тем стратегий за последние двадцать лет было много, но в дискуссии, если угодно — в политической памяти, остались «программа Грефа» до 2010 года и Стратегия-2020. Это значит, что она стала важной вехой дискуссии, ориентиром.
Если вы пишете программу развития на два года, то вы должны обсуждать проблемы двух лет. Если вы пишете программу на 15, 20, 25 лет, то это нужно для обсуждения сегодняшних проблем. Стратегия должна обозначить вектор развития сейчас, а не то, каким будет мир в 20-м, 30-м или 35-м году. Это очень важно понимать. Этим была сильна программа Грефа до 2010 года, говорят, ее выполнили примерно на 40%. Но главное состоит в том, что она задала некий тренд, при том что дальше менялись обстоятельства и ситуация. Программа Грефа была первой, которая начиналась с человеческого капитала, а не с экономического роста.
Была еще одна программа, которую выполнили практически на 100%. Это программа Егора Гайдара 1992 года. Просто она очень жестко задавала тренды, которые должны были быть реализованы. Она была выполнена к 1998-му. Если вы посмотрите состояние 1998 года и сравните с программой 1992-го, то увидите: что было написано, то и было реализовано.
— То есть сейчас гарантий нет?
— Задача стратегии — понять и задать тренды, а вовсе не выполнить все предписания. Вот, к примеру, пенсионная реформа пошла иначе, чем это было записано в Стратегии-2020, но до этой программы мы плохо понимали, что делать с пенсионной системой. А затем концепция появилась. В конце концов, стратегия — это не устав караульной службы.
— Если говорить о векторах, какие основные структурные реформы должна описывать стратегия развития?
— Реформу системы правоприменения, обеспечения безопасности. Если главное — это частные инвестиции, то частному инвестору надо обеспечить безопасность. Моя любимая фраза из 1921 года: «Понесет ли буржуазия деньги в банк, когда советская власть гарантирует сохранность вкладов? Нет, не понесет, потому что она не гарантирует сохранность жизни вкладчиков».
Это оздоровление экономики — низкая инфляция, низкая процентная ставка, развитие экономики при низком долге. Ведь кредитная история России плоха. На Гайдаровском форуме в январе 2016 года будет большая дискуссия «Государственный долг — порок или добродетель?». В общем, низкий госдолг с точки зрения государственной политики — не очень хорошо. Но при нашей кредитной истории мы обречены довольно долго — поколения — жить с низким госдолгом, если хотим, чтобы макроэкономике страны доверяли.
Реформа человеческого капитала: в стране должно быть все в порядке с лечением и учебой. Пенсионная реформа. Мы не можем обсуждать пенсионную реформу и проблемы здравоохранения и образования в терминах XX века. Cам вопрос пенсионного возраста, на мой взгляд, при всей его фискальной важности — вторичен. Пенсия сейчас ведет к существенному обеднению. В развитом, богатом обществе человек будет строить свои индивидуальные пенсионные стратегии. Мы должны обсуждать проблемы небедной старости. Мы живем в непредсказуемой системе. Откуда я знаю, что лучше для решения проблемы достойного уровня жизни пенсионера — его личные накопления или государственное пособие? Я считаю, что мы должны выйти из этой парадигмы и обсуждать проблему недопущения бедности пожилых людей. Нынешняя молодежь и новый средний возраст приводят к иным пенсионным стратегиям. То же самое со здравоохранением. Отдельная тема — бюджетная политика. Она должна быть принципиально иной — с пониманием нового бюджетного правила, с серьезным бюджетным маневром в направлении производственных отраслей, стимулирующих экономический рост.
— Сейчас многие говорят о том, что Россия разворачивается на Восток — выстраивает более тесные экономические отношения с азиатскими странами. Но кто-то возражает, что разворота нет — просто диверсификация направлений сотрудничества. Существует ли разворот, и верное ли это решение?
— Правильно — торговать и сотрудничать со всеми.
— Стоит ли сейчас особенно сближаться с Китаем, с учетом того, что темпы роста его экономики снижаются?
— Если получится, стоит. Главный вопрос — получится ли.
— Почему может не получиться? Нам нечем обмениваться с крупнейшей экономикой мира?
— Потому что внешнеэкономические отношения зависят не только от экономических интересов, но прежде всего от политических обстоятельств. И только экономический историк будущего может четко сказать, почему что-то удалось, а что-то не очень.
— Недавно эксперты РАНХиГС спрогнозировали сокращение доли среднего класса. Какие последствия это будет иметь для экономической и политической систем?
— Все зависит от того, каким образом определять понятие среднего класса. Одно дело — средний класс «по потокам», включая образование, самоощущения, а другое дело — по запасам, по тому, чем представитель среднего класса владеет и что может позволить себе купить. Валютные курсы у нас стали в два раза ниже, но стали ли мы в два раза беднее?
— Вашей академии приписывают предложение о сокращении числа министерств в правительстве в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Вы сейчас участвуете в обсуждениях этой темы?
— Мы не давали никаких предложений по количеству министерств и ведомств. Министерств должно быть столько, сколько нужно президенту и премьеру для формирования устойчивой политической конструкции. Сакрального значения их число не имеет.
К примеру, надо ли объединять Минфин и Минэкономики? В ноябре 1991 года их объединили, потому что политическая целесообразность диктовала, чтобы объединенное министерство возглавил Егор Гайдар. А в начале апреля 1992-го их разъединили, потому что политически это было уже не нужно. В плане контрольно-надзорных функций, конечно, речь должна идти об их сокращении.
— Получается, что это вопрос скорее о персоналиях, нежели о структуре?
— Отчасти да. Вопрос в обеспечении нужного баланса политических сил.