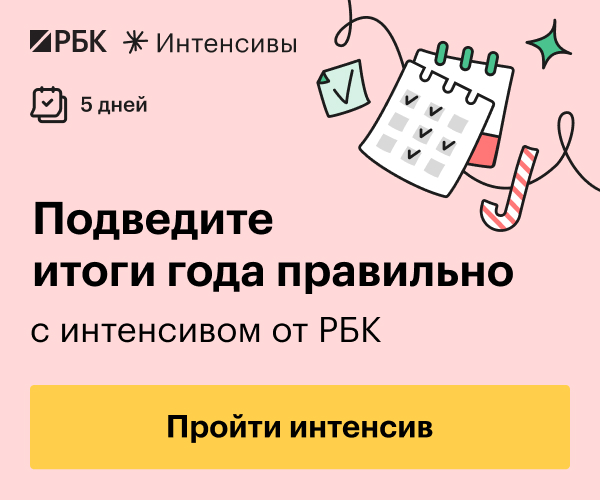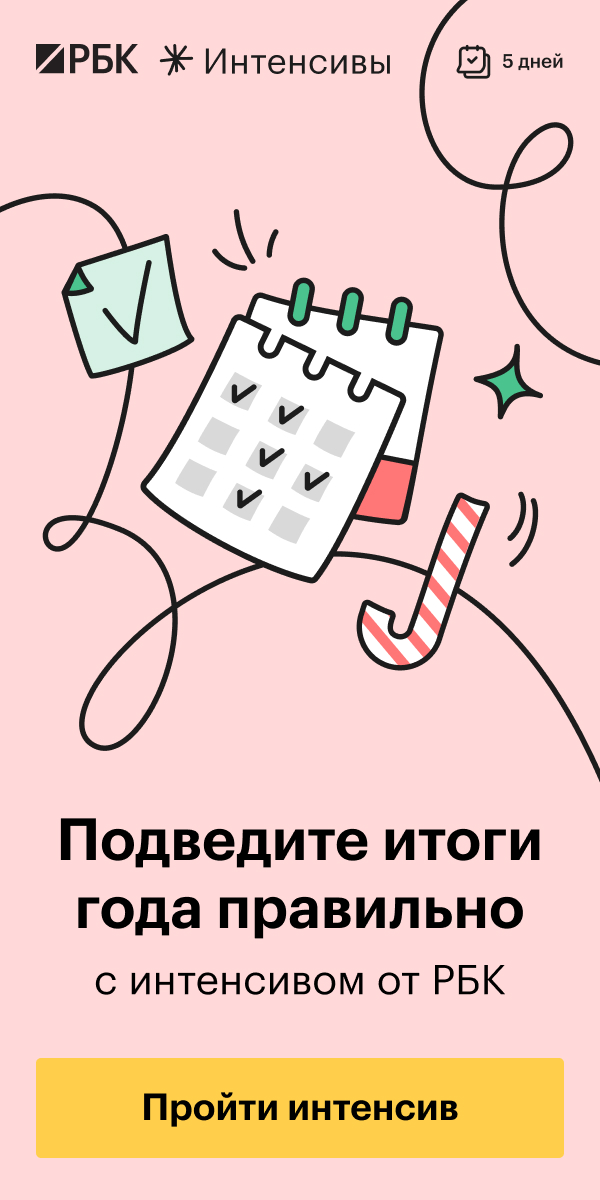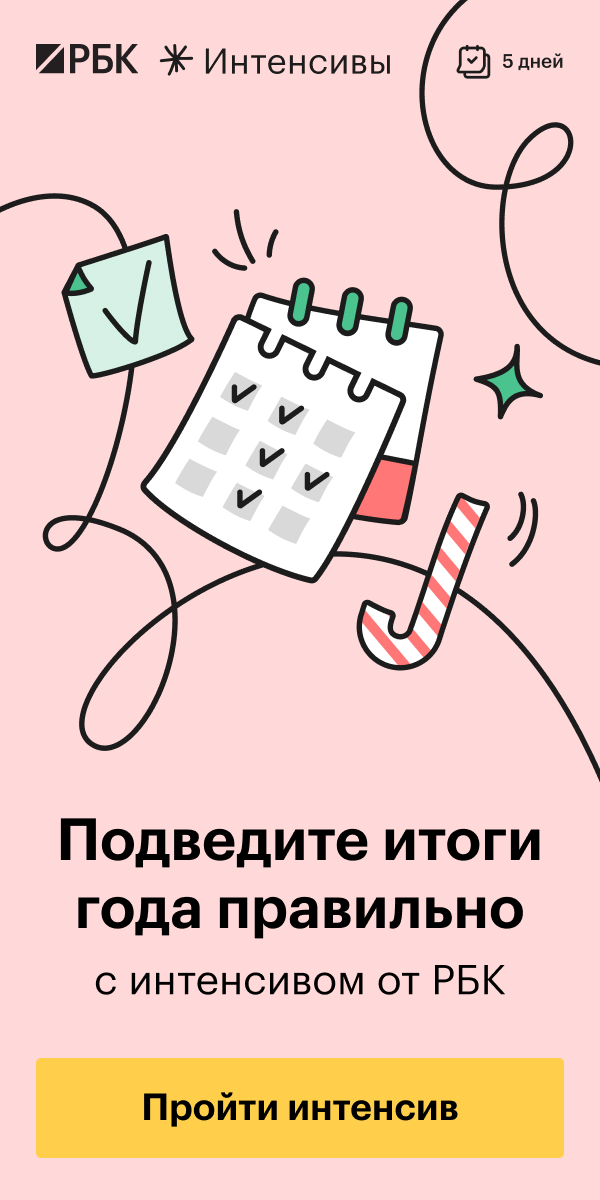Единый и ужасный: как российское общество приспосабливается к ЕГЭ
Что сегодня волнует миллионы российских семей? Конечно, рост цен и тарифов. Но в семьях, где есть старшеклассники, еще один повод для волнения: как сын/дочь будет сдавать ЕГЭ? Как всякий важный вопрос, вопрос об экзаменах становится политическим. Именно он уже много лет является наиболее обсуждаемым в обществе, когда речь идет о российском образовании. А ситуация с образованием рассматривается массовым сознанием просто: был Советский Союз с его лучшей в мире системой образования, пришли известно кто, развалили и страну и эту систему. Советское образование считают образцовым и те, кто к советскому строю относятся критически. За нынешней системой образования готовы признавать достоинства лишь в той мере, в какой она сохранила черты советской. Постсоветские реформы — а в этой сфере они были решительнее, чем в прочих, — публикой или отвергаются (как множественность учебников), или принимаются как навязанная данность (система бакалавриата и магистратуры). Примерно так же обстоит дело с ЕГЭ. Переход к этой принятой во многих европейских странах системе был частью задуманного введения в нашей стране Болонской системы образования. Идеи ЕГЭ разрабатывались в конце 1990-х годов, когда Россия еще хотела интегрироваться в европейскую жизнь. Отрицательное отношение к этому новшеству — часть поощряемой тенденции не любить все пришедшее в «лихие 90-е».
Разочарование
15 лет назад, когда в ходе эксперимента в некоторых российских регионах часть выпускников смогли без вступительных экзаменов поступить в вузы, эту меру встретили с интересом. Главное достоинство, которое увидели родители из провинциальных городов и сел, это возможность подать документы и поступить в вуз большого города без поездки туда (это проблема для многих семей). Эффект был: число иногородних в столичных вузах и университетах крупных городов значительно выросло. А возможность поступить без взяток вузовским преподавателям и членам приемных комиссий воспринималось как еще одно очевидное преимущество.
За полтора десятилетия существования ЕГЭ социально-политическая ситуация в России изменилась. В российском обществе всегда были носители консервативных настроений и тенденций. Но именно эти настроения и тенденции получили поддержку власти, а затем сама власть стала опираться на консервативный поворот в обществе. Поэтому одна из важнейших целей первого постсоветского периода — интеграция России в европейскую систему уже не встречает поддержки в обществе. Единому госэкзамену противопоставляют проверенную советскую систему выпускных и вступительных экзаменов, которые обеспечивали набор в вузы «действительно лучших». А про ЕГЭ говорят, что это якобы «тесты и только тесты», отбирающие либо тех, кто «тыкал наугад и попал», либо тех, кому в школе не давали знаний, а лишь натаскивали на решение тестов.
«Бесчеловечный» ЕГЭ
Недовольны многие участники процесса. ЕГЭ оказался экзаменом не только для школьников, но и для их учителей, для школ, для регионов. Он показал, как на самом деле низок уровень подготовки там, где годами положение считалось вполне благополучным. Он поломал, и это ему не могут простить, не только схемы прямой коррупции — взяток, или «подарков», сопровождавших процесс перехода школьников из класса в класс и из школы в вуз, но и систему «человеческих» добрых отношений, где свои учителя своим деткам (из любви, а не корысти! ) ставили хорошие оценки — не за знания, а чтобы не портить мальчику/девочке аттестат. Замену своих, входящих в положение учителей на чужих равнодушных экзаменаторов или хуже того, на компьютеры родительская общественность восприняла как покушение на «наш» способ строить отношения и решать жизненные проблемы. Так же это расценили учителя, школьные администраторы и более высокое начальство в системе школьного образования. Региональные руководители заволновались тоже. Руководителям регионов результаты ЕГЭ сделали одним из показателей их работы, что привело к попыткам всеми возможными способами эти оценки повысить. В конце концов этот показатель пришлось убрать. Немногие были рады и в вузовской системе. Систему надо было как-то приспосабливать к интересам ее пользователей.
Похоже, что быстрее всех приспособились, собственно, школьники. Они адаптировались к системе всеми обычными способами: учились сдавать тесты, учились их обходить, но в целом они ее приняли, как приняли автолюбители переход на тесты при сдаче экзаменов на вождение автомобиля. Опросы показывают: чем дальше от реальности единого госэкзамена стоят опрашиваемые, тем хуже о нем отзывы, и напротив, чем по возрасту и положению они к нему ближе, тем больше согласия на этот метод оценок. Так что основные дебаты и баталии идут не в школьных классах, а в интернете, СМИ и на политических высотах. Из года в год борьба против единых экзаменов обостряется, а попытки их отменить становятся все более активными. В частности, за это борются некоторые депутаты Государственной думы.
Не сдавал, но осуждаю
Именно с ЕГЭ принято связывать падение качества школьного образования в России. Недовольны этим качеством, по данным Левада-центра, 45% жителей страны, что в 2,5 раза превосходит число позитивных оценок. А тех, кто считает более подходящей старую систему, когда выпускники сдавали сначала выпускные, а потом вступительные экзамены, в пять раз больше, чем сторонников новой системы. Это отражение не реального опыта, а сложившейся дурной репутации ЕГЭ. Даже молодежь, которая не поступала в вузы по старой системе, в 2,5 раза чаще указывает, что новая система оценивает знания хуже, чем старая.
Правда, если задается вопрос, не отменить ли ЕГЭ, не вернуться ли к прежней системе, то выступающих за такой возврат и против оказывается поровну. Здесь сказываются разные факторы. Один — отмеченная выше состоявшаяся адаптация школьников, тех, кому проходить это испытание. За ними переходят на сторону ЕГЭ и часть родителей. Другой фактор — практическая постановка вопроса. Есть те, кто идеологически против этого новшества, но раз уж его ввели, то пусть будет. Многие, кто так или иначе связаны со школой, где одна реформа не успевает сменить другую, не хотят уже никаких реформ. Тема усталости от изменений, стремления к стабильности и устойчивости хотя бы в сфере образования звучит постоянно.
Неудобная прозрачность
Что касается влияния ЕГЭ на коррупцию, то тут общественное мнение разнородно. 21% считают, что взяток стало меньше, практически столько же полагают, что их стало больше. Но и здесь позиция самых молодых, прошедших через ЕГЭ, более позитивна. Среди них ответов о снижении коррупции больше, чем о ее росте. Открытость результатов ЕГЭ, их прозрачность — его важное антикоррупционное достоинство. Большинство вузов публикует данные об оценках абитуриентов. Любой желающий может увидеть, сколько баллов набрали победители конкурса. Казалось бы, возможность с помощью современных средств сократить коррупцию при поступлении в вузы должна была вызвать большой энтузиазм в обществе, в котором именно коррупцию давно называют одной из важнейших проблем. На деле оказалось совсем не так: если в первый год проведения ЕГЭ сторонников новой системы было вдвое больше, чем противников, то далее отношение к ней начало ухудшаться. В последние годы число ее сторонников примерно равно или даже меньше, чем противников.
Очень быстро выяснилось, что большинство игроков на этом поле в какой-то степени заинтересованы в дискредитации новой системы; в «чистом» виде она почти никого не устраивала. Начались новые попытки ее адаптации. Снизился запрос на репетиторство преподавателей конкретных вузов, сложнее стало зачислять в университеты абитуриентов с помощью взяток. И тогда по сетям пошли якобы экспертные заключения, что-де в лучшие гуманитарные вузы, когда их заставили отказаться от экзаменов, пришли абсолютно безграмотные выпускники. Некоторые из этих текстов так с тех пор и гуляют по сетям под видом свежих новостей.
Варианты адаптации
По понятным причинам наиболее заинтересованными участниками этого процесса являются ученики и их родители. С одной стороны, они выступают за его честность и открытость, с другой — многие из них ищут возможности найти какие-то лазейки для получения более высоких результатов. В какие-то годы происходили «сливы» ответов на ЕГЭ, потому что запрос на такую информацию очень высок. В последнее время злоупотреблений стало заметно меньше, но скорее не потому, что выросла сознательность экзаменующихся, а из-за более строгих мер контроля. Адаптация ЕГЭ к российским реалиям среди прочего пошла по пути включения правоохранительных органов в этот процесс.
Другой вариант адаптации состоит в постепенном возвращении к прежней системе экзаменов. Все меньше в заданиях по разным предметам форм, предполагающих точные ответы. Все больше заданий, где при проверке многое зависит от взгляда проверяющих. Предполагается увеличить число обязательных предметов, по которым выпускники сдают ЕГЭ, что тоже является отказом от его первоначального замысла — объединения выпускных и вступительных экзаменов. В частности, уже решено, что обязательным станет ЕГЭ по иностранному языку. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на введении обязательного ЕГЭ по истории, поскольку она «больше чем обычный школьный предмет. Это важная часть воспитания, источник патриотизма, любви к Отечеству». Министр культуры Владимир Мединский предложил сделать ЕГЭ не только письменным, но и устным, поскольку устный экзамен менее формален. Есть предложения ввести ЕГЭ по всем предметам, как это было в советской школе. И главное — уйти от формализма ЕГЭ, сделать экзамен «творческим», как это было раньше. Если эти предложения будут приняты, от инновационной идеи ЕГЭ не останется ничего.
Многие вузы добились права, принимая по результатам ЕГЭ, проводить еще и собственные экзамены. Они проводятся по вполне традиционной форме, а значит предполагают репетиторов из этих вузов. На ту же тенденцию работает новая поддержанная в верхах инициатива в качестве дополнительных баллов учитывать успехи школьников в сдаче норм ГТО. Адаптация нового к старому продолжается, но все слышнее голоса тех, кто требует вообще отменить эту систему как не соответствующую нашему особому пути.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.