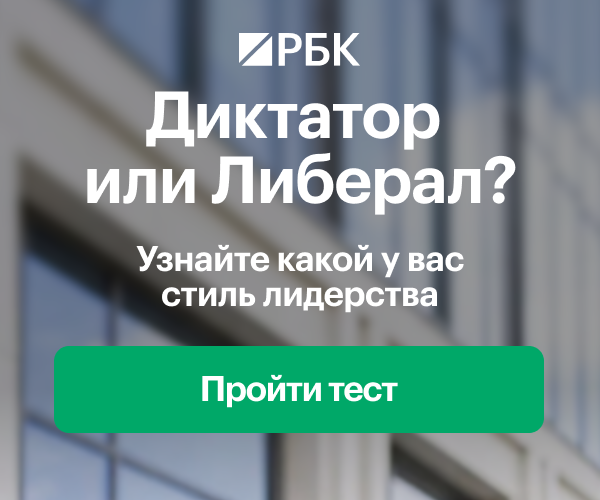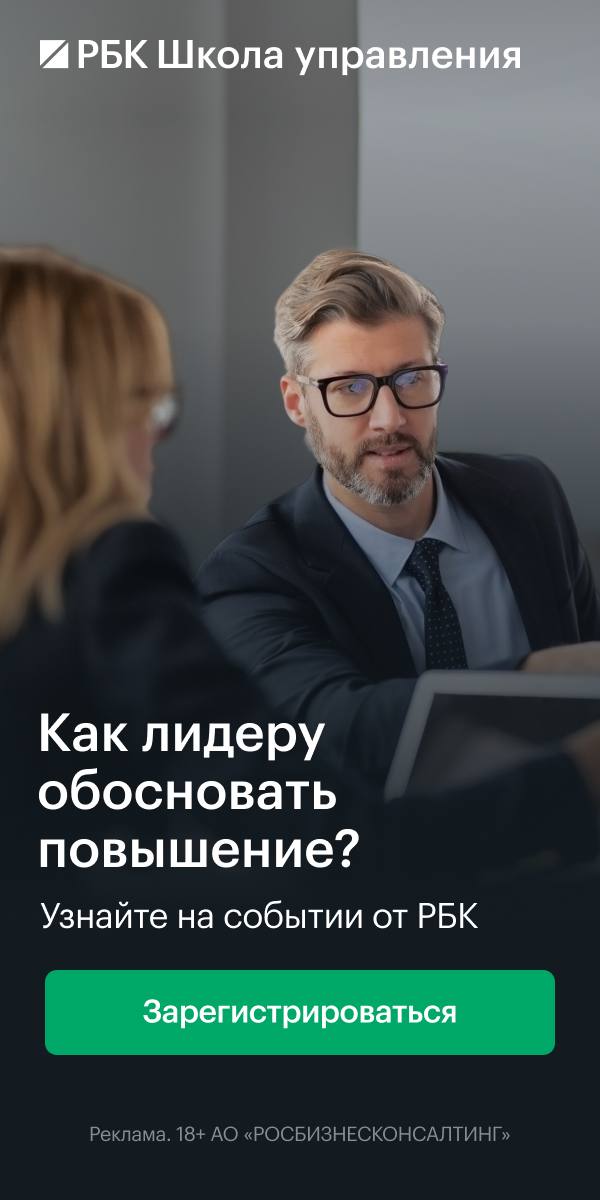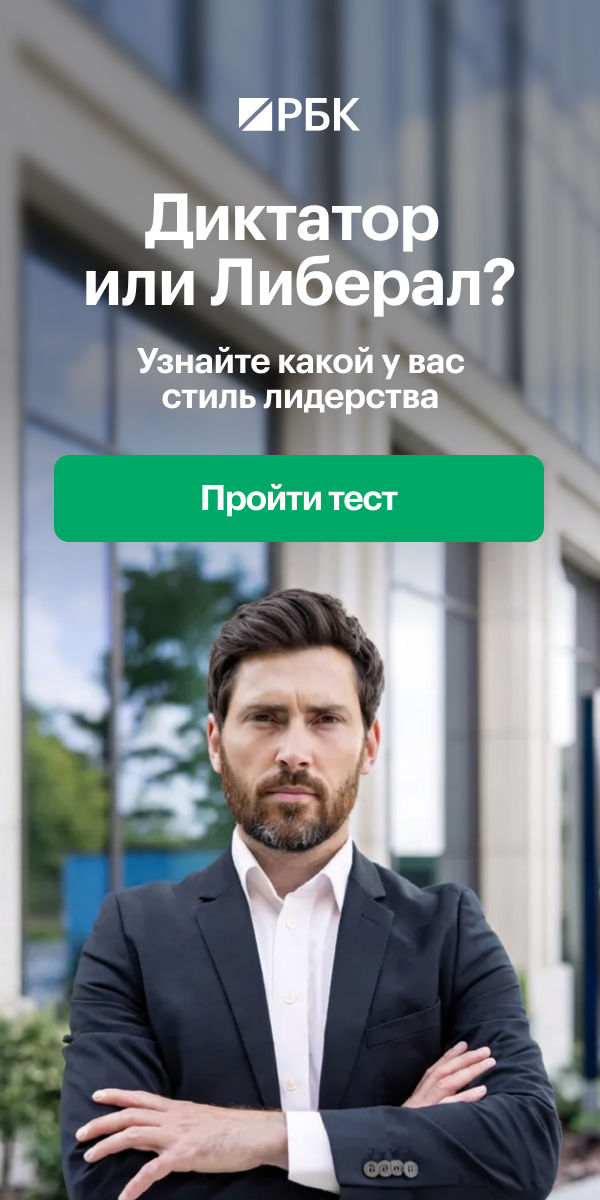Церковные споры: почему Всеправославный собор усиливает раскол
Всеправославный собор, не успев начаться, оказался в кризисе. Ряд православных церквей отказался от участия в его работе. Первыми об этом объявили болгары, за ними последовал сирийский Антиохийский патриархат, затем грузины, а 13 июня к ним присоединилась и Русская православная церковь (РПЦ). Серьезные сомнения по поводу целесообразности проведения собора выразили сербы. Почему же событие, призванное продемонстрировать единство православного мира, стало свидетельством глубокого размежевания?
Подозрительный экуменизм
Самое простое и весьма распространенное объяснение — разногласия между Москвой и Константинополем, носящие многолетний характер, тем более что собор был инициирован Вселенским патриархатом. В рамках этого подхода выглядит вполне естественным, что Москва стоит за отказом недовольных церквей. Однако самое логичное на первый взгляд объяснение не всегда является правильным. Другое дело, что «зерно истины» в нем есть. Когда болгары выступили со своим неожиданным заявлением, РПЦ не захотела поддерживать жесткую позицию своих коллег-оппонентов из Константинополя, а высказалась за попытку достижения компромисса, что на практике означало откладывание проведения собора на неопределенный срок: за несколько дней снять все вопросы было бы невозможно.
Гораздо более вероятной выглядит версия, далекая от конспирологии, но учитывающая особенности православного сознания. Проекты соборных документов носили компромиссный и очень сдержанный характер, но в них нельзя было обойти вопрос о взаимоотношениях с «инославными» — католиками, протестантами, монофизитами и др. Поэтому появился проект документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», в котором содержатся формулировки о необходимости «восстановления единства христиан» и о существовании неправославных «христианских церквей и конфессий». Кроме того, в тексте хотя и с некоторыми оговорками, но в целом позитивно оценивалась деятельность Всемирного совета церквей (ВСЦ) — международной организации, в рамках которой проходит экуменический диалог православных и протестантов.
Однако в последние десятилетия вопрос об экуменизме приобретает все более болезненный характер для многих православных церквей. Если церковные дипломаты и многие профессора богословия уже привыкли к экуменической риторике, то немалое число практикующих верующих, в первую очередь монашествующих, считают, что такая риторика ведет к размыванию основ вероучения. Да и сам феномен экуменизма воспринимается в разных православных церквах неоднозначно. Для многих православных, живущих в западном мире, он является абсолютно естественным и привычным явлением. Впрочем, и здесь есть исключения. Одно из них составляет монашество святой горы Афон, традиционно пользующееся особым уважением в православном сообществе, другое — подчеркивающая свой консерватизм Русская зарубежная церковь, с 2007 года входящая в состав РПЦ.
В то же время для православных из ряда стран, в которых ранее у власти находились коммунисты, экуменизм — это подозрительное явление, которое навязывалось церквам властями. С начала 1960-х годов коммунистические функционеры пытались использовать экуменическое движение для поддержки «борьбы за мир» и обличения «империалистических поджигателей войны». После падения коммунизма эти политические аргументы утратили свою актуальность. Под мощным давлением консервативного монашества Грузинская и Болгарская церкви вышли из ВСЦ в 1997 и 1998 годах соответственно. Неудивительно, что именно эти церкви сейчас оказались в числе тех, кто проигнорировал собор (отказ сирийцев связан с другой проблемой — неразрешенным конфликтом с Иерусалимским патриархатом о том, кто должен окормлять немногочисленных православных в Катаре).
Инославный брак
Еще один вопрос, прямо связанный с взаимоотношениями с неправославными христианами, — положение другого документа, «Таинство брака и препятствия к нему», о том, что брак православных с инославными может быть разрешен при условии крещения и воспитания детей от этого брака в православии. Это положение вызвало резкую критику традиционалистов, так как оно противоречит одному из правил Трулльского собора, состоявшегося в конце VII века: этот собор категорически запретил браки с инославными. В российском информационном пространстве Трулльский собор фигурировал во время процесса над Pussy Riot, когда сторона обвинения ссылалась на него для обоснования своей позиции. Для современного секулярного человека такие ссылки являются экзотикой, для православного традиционалиста — безусловным авторитетом. Другое дело, что в современной практике древние каноны в полном объеме соблюдаются далеко не всегда, и уже в позапрошлом веке русские великие князья женились на германских принцессах без их предварительного перехода в православие (например, святая мученица Елизавета Федоровна стала православной, уже будучи русской великой княгиней).
И здесь возникает вопрос: может ли собор XXI века несколько скорректировать канон VII века? То есть, отметив его историческую правоту, официально разрешить такие браки при определенных условиях. И тут сошлись две позиции, которые примирить не удалось. В результате общеправославной санкции на «либерализацию» одного из канонов не будет. Это в большей степени соответствует привычной практике, которая далеко не только в этом вопросе сочетает строгость канонов и необязательность их исполнения (напрашивается параллель с отношением россиян к гражданским законам). Например, в храмах РПЦ принят строгий монастырский богослужебный устав, который в теории нельзя сокращать, но на практике, конечно же, сокращают, причем в каждом храме по-своему, как захочет настоятель. Иначе нельзя: прихожане не выдержат долгого стояния и разбегутся. Но издать новый устав крайне затруднительно: против будут традиционалисты, которые напоминают о расколе XVII века (тогда менее серьезные изменения привели к конфликту, последствия которого не разрешены до сих пор).
Оппозиция в РПЦ
Неудивительно, что и в РПЦ немало противников собора, которые подвергали резкой критике позицию патриарха Кирилла и митрополита Илариона, одобривших содержание соборных документов. Но им можно было противопоставить сильный аргумент — консолидированную позицию мирового православия. Идти против нее психологически очень сложно. К тому же у церковного начальства всегда есть возможность наказать ослушников (вплоть до лишения сана). Однако если несколько церквей проигнорируют собор, то у традиционалистов появляется «железный» аргумент — они не бунтовщики, а единомышленники грузинского католикоса Илии или болгарского патриарха Неофита. Поэтому руководство РПЦ оказалось в крайне затруднительном положении — и вышло из него, решив не «подставляться» ради участия в проекте, инициированном соперниками из Константинополя, а выступить в качестве хранителей православного единства.
Таким образом, в православном мире оформилось размежевание на либералов и консерваторов, причем РПЦ оказалась в числе вторых. Однако это может создать проблемы для ее руководства: традиционалисты все равно будут с подозрением относиться к священноначалию, которое только в последнюю минуту отказалось от участия в слишком «либеральном» соборе. Споры не закончены, и неудачная попытка договориться станет очередным этапом в эрозии мирового православия. В католичестве либералов и консерваторов объединяет фигура папы римского, безошибочного в вопросах вероучения согласно решению Первого Ватиканского собора 1870 года. В православии такого авторитета нет: Константинопольский патриарх обладает лишь символическим «первенством чести». Так что вероучительные споры будут продолжаться, причем возможно их перерастание и в административные конфликты — например, в украинском вопросе, в котором противники Москвы уже давно апеллируют за поддержкой к Константинополю, надеясь, что он предоставит им желанную автокефалию. Так споры о правиле Трулльского собора могут оказать влияние и на современные церковно-политические вопросы.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.