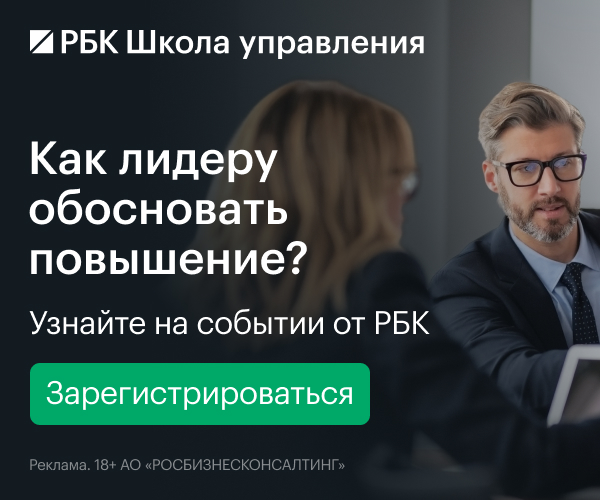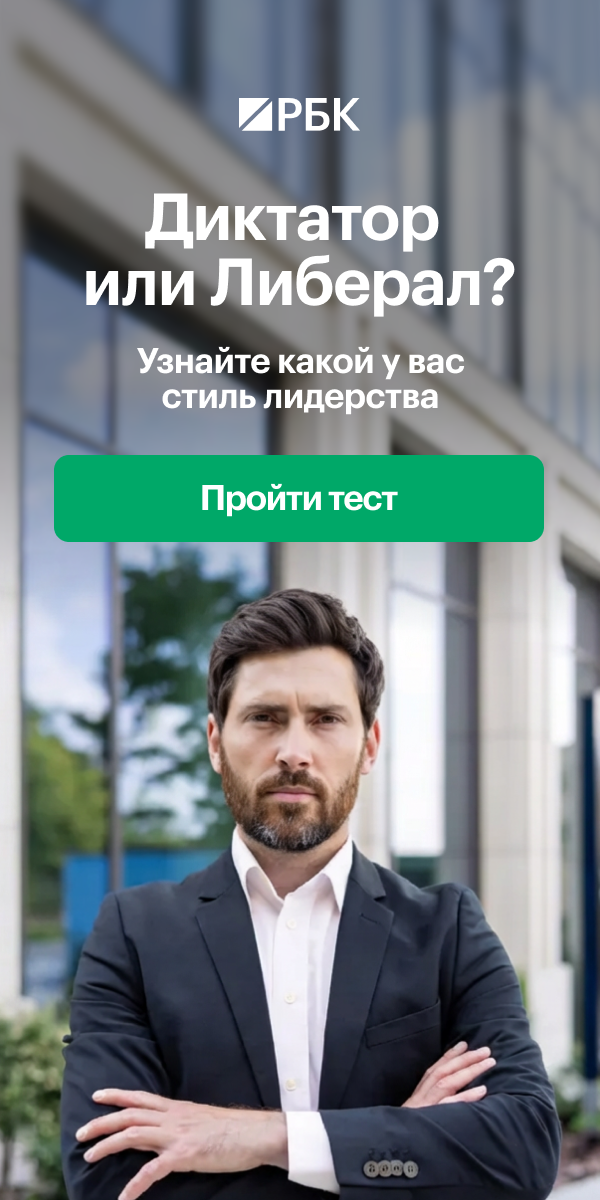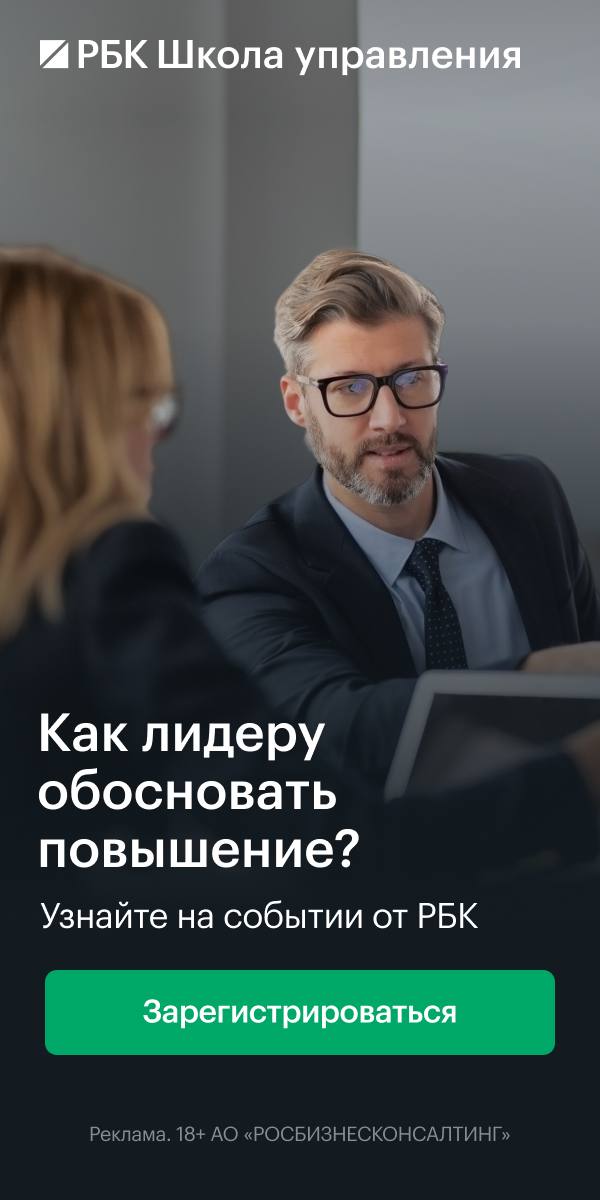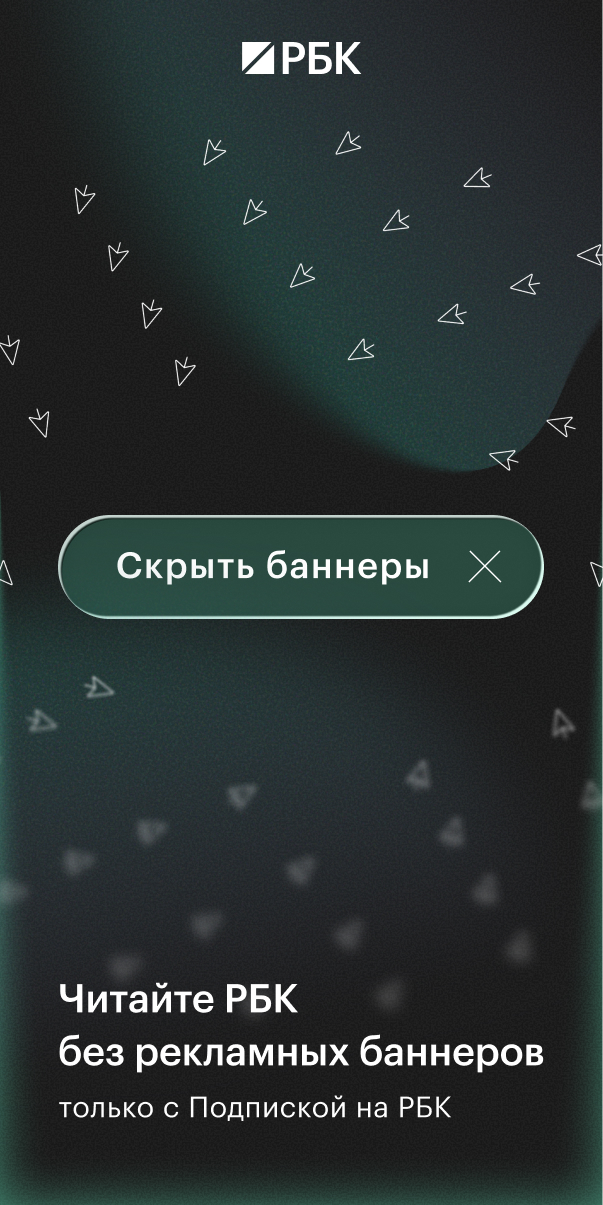«Крым» не работает: почему люди возвращаются на улицы
26 марта на митинги по всей стране вышли, по некоторым оценкам, до 60 тыс. человек в 82 городах. Больше всего людей пришли на несогласованные акции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Меньшие, но необычно многолюдные по местным меркам митинги прошли в других областных центрах. По свидетельствам участников и опубликованным фотографиям, большинство на этих митингах составляла молодежь, в том числе и несовершеннолетние. Судя по репортажам с мест событий, на мероприятиях преобладало хорошее настроение, люди много шутили, и даже во время задержаний на некоторых лицах можно было видеть улыбки, хотя в целом задержания были жесткие и только в Москве в отделениях полиции оказались больше тысячи человек.
Как часто это бывает, протесты для многих стали неожиданностью — недоглядели. И, как шутят теперь некоторые коллеги, исследовательскому цеху вскоре можно ожидать большой госзаказ на исследования молодежи. Мы же попробуем пока обойтись теми данными и объяснениями, которые есть на данный момент.
Предпосылки протеста
Новая волна протеста стала возможной во многом потому, что «эффект Крыма» подходит к концу. По многим показателям общественные настроения сегодня хуже, чем они были до 2014 года. Об этом говорит динамика индекса социальных настроений — интегрального показателя, который измеряется Левада-центром. Это верно в том, что касается личного положения человека, оценок его благосостояния, надежд на завтрашний день. Совокупный рейтинг власти, если учитывать не только стабильно высокий рейтинг Путина, но и оценки деятельности правительства, сегодня почти на 20 пунктов ниже, чем в конце 2014 года. Сказалось не только ослабление эйфории, но и последствия экономического кризиса: даже по официальным данным, люди в России сегодня живут хуже, чем три года назад. Значение имеет не только снижение уровня жизни, но и постепенно растущее ощущение тупика, невозможности перемен, отсутствие жизненных перспектив. Это особенно остро должны переживать образованные молодые люди, которые вслед за Навальным «отказываются верить, что Россия — пропащая страна». И тема коррупции при этом воспринимается скорее как символ недовольства, несправедливости ситуации, нежели социальное зло, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни. Эти изменения общественных настроений часто проходят мимо тех экспертов, которые фиксируют свое внимание только на высоких президентских рейтингах, не обращая внимания на остальные показатели.
Между тем прямых свидетельств того, что недовольство постепенно накапливается, за последние пару лет было достаточно. Об этом говорили увеличение трудовых протестов, рост числа акций за сохранение городской среды, всероссийские протесты дальнобойщиков и фермеров, недавний скандал вокруг демонстративно неуважительной по отношению к петербуржцам передачи Исаакиевского собора в распоряжение церкви. Наверное, наиболее красноречивым свидетельством убывающей поддержки власти стали результаты парламентских выборов в сентябре 2016 года, когда на участки не пришли большинство жителей крупных городов. Наконец, на растущее недовольство и активизацию части городской публики (и в первую очередь молодежной) указывали недавние встречи самого Навального со своими сторонниками, пресловутая история со школьниками из-под Брянска. Эти и другие примеры эрозии посткрымского консенсуса многие наблюдатели и комментаторы попросту не учитывали — то ли под влиянием телевизионной пропаганды, то ли самогипноза.
Ухудшающиеся общественные настроения объясняют многолюдность вчерашних протестных акций лишь отчасти. Во многом это результат осознанной и целенаправленной работы самого Алексея Навального. Он добился того, чего не сделали демократические партии за полгода до этого во время избирательной кампании в Государственную думу. При этом часто забывают, что Навальный — это не только человек, а политическая машина, команда единомышленников и профессионалов, самообучающаяся, как нейронная сеть. В основе успеха команды Навального — кропотливая ежедневная работа по расширению базы своих сторонников, планомерное освоение новых каналов коммуникации с людьми в столице и регионах.
Как мне представляется, на митинги пришли те люди, на которых Навальный и его команда ориентировались и до которых они смогли достучаться. Сначала за счет фильма «Он вам не Димон» — на сегодняшний день только в YouTube его посмотрели более 12 млн человек. Затем благодаря агитации через социальные сети, основную аудиторию которых в России составляет именно городская молодежь. Важную роль должны были сыграть недавние встречи Навального со сторонниками в качестве кандидата в президенты. Эти мероприятия действуют не только на тех, кто непосредственно на них приходит. Ничуть не менее важны эхо этих встреч, укрепление репутации Навального как политика, который общается с людьми напрямую, а не только в интернете. Ставка на встречи с избирателями, моду на которые сам Навальный ввел еще в 2013 году во время выборов мэра Москвы, вновь доказала свою результативность.
Что дальше?
И все же пьяный воздух свободы, порцию которого некоторые из читателей этого текста наверняка получили в воскресенье, не должен вскружить голову. Какими бы неожиданными, важными, радостными (или пугающими) ни казались протесты, мы не должны переоценивать их масштаб и последующий эффект. Алексей Навальный подтвердил умение работать с протестным электоратом, а также свое лидерство в демократической оппозиции на фоне того, что многие известные политики на воскресных митингах так и не появились. Но ждать стремительного роста его популярности в условиях государственной монополии на СМИ вряд ли оправданно.
В протестных акциях приняла участие молодежь, но лишь малая ее часть — городская, образованная, интересующаяся политикой. Большинство молодых людей по-прежнему остаются индифферентными к политическим событиям, довольными своей жизнью. Они чаще поддерживают существующий строй, нежели россияне в целом.
Также не будем забывать, что значительная часть акций, проходивших в последнее время, собиралась под социальными лозунгами. Как показывают исследования, чаще всего участники таких мероприятий выступать с политическими требованиями не хотят. Иногда это происходит вполне осознанно, так как люди надеются добиться от власти решения своих проблем, иногда людям просто не хватает осознания глубины и системного характера происходящего. Так или иначе, но солидарность с участниками других протестных акций пока скорее редкость, чем правило. И поэтому важной проверкой того, меняются ли эти установки, станет отношение населения к повестке воскресных митингов. Допускаю, что из-за молчания федеральных каналов значительное число россиян о произошедшем не узнают. Однако общероссийскую акцию скрыть будет гораздо труднее, чем отдельный протест. И в этом Навальный на сегодняшний день переиграл власть.
Кроме того, важно понимать, что сегодняшние общественные настроения пока отличаются от тех, что были распространены в конце 2011 года. Да, по многим показателям они хуже, чем были до Крыма. Но на протяжении последнего года медленно, но укрепляется потребительский оптимизм. Индексы социальных настроений последние несколько месяцев тоже шли вверх, а не вниз, в том числе улучшалось и отношение людей к власти. Падение доходов, которое продолжалось около двух лет, на начало 2017 года тоже остановилось, по крайней мере по субъективному ощущению наших респондентов. Закрепится ли эта тенденция на улучшение социального самочувствия или это лишь временное явление и показатели снова пойдут вниз, пока не ясно. Но такая неопределенность событий и делает нашу жизнь интересной.