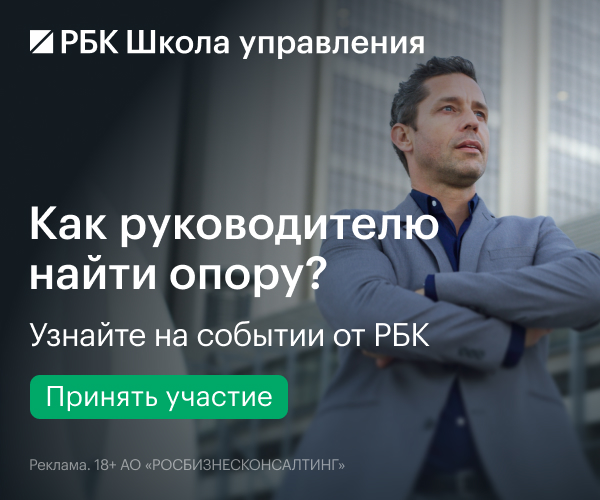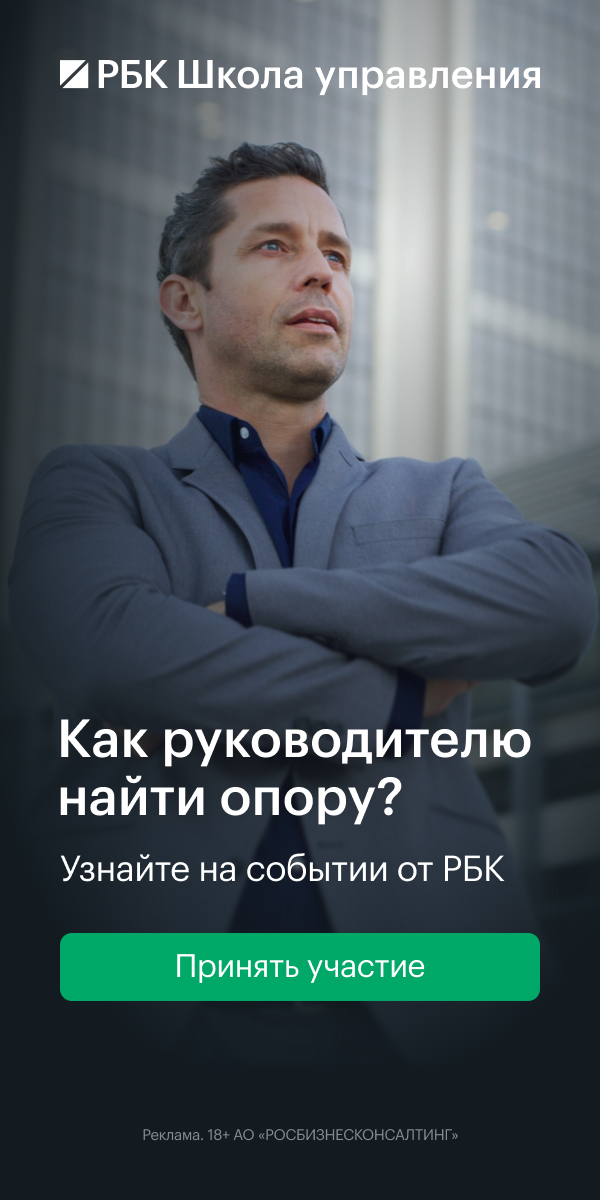Ненужная свобода: почему интернет не помог российской оппозиции
Последние выборы в Государственную думу отличаются помимо прочего еще и тем, что проходили они в условиях высочайшей компьютеризации населения, неограниченного доступа к интернету, широкой вовлеченности граждан в социальные сети. С учетом почти стопроцентного охвата страны мобильной связью можно говорить о том, что Россия в полном смысле слова является информационным обществом. Более того, использование различных электронных девайсов в быту в России даже более востребовано, чем в иных европейских странах, — достаточно сравнить пассажиров в метро у нас и на Западе.
Выбор против выборов
С продвинутыми коммуникационными технологиями обычно связывается представление о свободном распространении идей, в том числе политических, и о том, что таковым обществом труднее манипулировать, используя пропаганду или административный ресурс, ибо о любых проделках власти граждане будут моментально оповещаться и, соответственно, смогут им противодействовать.
Однако результаты выборов свидетельствуют об обратном. «Единая Россия» получила рекордный результат за все время своего существования, если считать по числу депутатов. И это в условиях «многопартийного» выбора и на фоне победных реляций о том, что уже пять сайтов обогнали по популярности «Первый канал». Для любителей зависать в Facebook, в котором существуют собственная субкультура и свои герои, подобные итоги явились обескураживающими. Почему же ожидания не совпадают с реальностью?
Парадокс заключается в том, что через интернет нельзя заставить интересоваться тем, что неинтересно. А выборы в массе своей людям были неинтересны. Они не видели в них чего-то значимого личного для них или для страны. Интернет — избирательное средство коммуникации. Пользователь сам выбирает, что ему смотреть или читать, а навязчивая баннерная реклама малоэффективна, поскольку пропускается автоматически.
И потому в эту кампанию ставка почти всеми кандидатами и партиями была сделана на старые добрые газеты, листовки, плакаты и прочую наглядную агитацию. Приметой данных выборов стали «кубы» на улицах, расположенные в наиболее людных местах, около которых происходила раздача агитматериалов, а сами они служили в качестве легко устанавливаемого и переносимого рекламного объекта. Их использовала как оппозиция, так и партия власти. Разумеется, под газетами имеются в виду в первую очередь специально выпускаемые предвыборные издания, лишь форматом совпадающие с привычной газетой. Из настоящих газет использовались в основном лишь разного рода бесплатные «районки».
Особенно важной традиционная бумажная агитпродукция оказалась для кандидатов-одномандатников. И выдвиженцы от власти, и ярые оппозиционеры (как, например, Константин Янкаускас со своей «Беседкой») заваливали своими газетами избирателей. Иного пути, чтобы достучаться до них, просто не имелось. Именно за счет своей газеты с ее боевитыми материалами на грани фола победил в Медведковском округе Москвы молодой коммунист Денис Парфенов. А черный пиар против него осуществлялся также в форме подметной газетки.
То же самое касалось плакатов и листовок. Недаром важнейшим сюжетом избирательной кампании в столице стала борьба оппозиции за доступ к приподъездным информационным стендам. Ранее они были ключевым ресурсом власти, которая монополизировала их для размещения своей агитпродукции.
Вторым путем коммуникации стали встречи кандидатов с избирателями — по месту жительства, в трудовых коллективах, на специально организованных мероприятиях.
Ну и третий, наиболее эффективный для политических партий путь — телевидение, как в формате рекламных роликов, так и в виде предвыборных дебатов.
Роль интернета оказалась более чем скромной. «Герой» нынешних выборов Владимир Жириновский практически не вел там кампании. Его странички в Twitter, «ВКонтакте» и Instagram выполняют вспомогательную функцию. Ему вполне было достаточно участия в дебатах на телевидении и встреч со сторонниками (он редко выезжал из Москвы, будучи привязанным к графику выступлений на ТВ и радио).
Блогеры не пройдут
Вообще персональные аккаунты политиков являются маловостребованными. Содержащаяся в них информация, пусть даже регулярно обновляемая, неинтересна потенциальному избирателю. Разбирая в этом году со своими студентами в РГГУ странички политических лидеров в соцсетях и их персональные сайты, мы пришли к парадоксальному заключению: самые интересные, информативные, оперативно пополняющиеся аккаунты принадлежат наименее успешным политикам.
Любопытным примером, доказывающим ограниченность возможностей интернета, стал видеоблогер Вячеслав Мальцев. Он завоевал популярность в узком сегменте пользователей YouTube, которой оказалось достаточно, чтобы выиграть праймериз ПАРНАС. Однако попав в федеральную политику, он вел себя по-прежнему как популярный блогер на своем канале, не чувствуя реакции аудитории или неправильно ее оценивая. Мальцев так увлекся устраиваемым им шумом на теледебатах, что оторвался от реальности, а посты и лайки поклонников в интернете окончательно дезориентировали его относительно истинной популярности. Впрочем, если считать, что его целью было собственное продвижение в виртуальном пространстве, то подобная тактика объяснима. Кампания «Помогите Маше Бароновой собрать подписи!» в Facebook выглядела очень успешной только до тех пор, пока не узнали результатов голосования.
Другим примером явились регулярные скандалы вокруг тех или иных заявлений Дмитрия Медведева, раздуваемые и бурно обсуждаемые в соцсетях, однако, как выяснилось, не нанесшие партии власти никакого ущерба.
Если абстрагироваться от выборов и посмотреть на устойчивость нынешнего российского политического режима, то нетрудно заметить, что рейтинг популярности Владимира Путина не зависит от распространения мобильной связи или интернета, от объема телевизионной аудитории. Миф об «останкинской игле» опровергается тем, что наивысших показателей уровень его одобрения достиг, когда граждане имели наибольший выбор средств коммуникации. В 2000 году, когда интернет считался диковинкой, а мобильные телефоны имелись лишь у немногих счастливчиков, практически всю политическую информацию население получало с телеэкрана. Однако рейтинг Путина был ниже, чем сегодня. А главное, прошедшие 16 лет с их грандиозным техническим прогрессом по части массовых коммуникаций ничего не изменили во взаимоотношениях власти и общества.
Оказалось, что свободное распространение информации (а за редкими исключениями цензура в Рунете не введена) вовсе ничего не гарантирует или меняет априори. Паттерны общественного поведения меняются крайне медленно, более того, они могут закрепляться и консервироваться с помощью Сети; недаром там активно вербуются исламские боевики-радикалы. Тон на форумах и в дискуссиях в соцсетях вовсе не задают либералы, сторонники плюрализма и демократии. А главное, большинство людей относятся к виртуальной коммуникации сугубо утилитарно. К тому же режим научился ловко манипулировать и во Всемирной сети — «ольгинские тролли» тому пример.
Таким образом, технологические перемены не влекут за собой общественные изменения. Принципы избирательной борьбы в США не поменялись принципиально за 230 лет, был ли в те времена печатный пресс или имеется сегодня компьютер. Американец образца 1783 года, пахавший на волах и пользовавшийся кремневым ружьем, ментально куда ближе к своему соотечественнику 2016 года, чем россиянин, вооруженный смартфоном и зарегистрированный во всевозможных соцсетях. Для янки XVIII века свобода слова и прессы, в частности, были священными понятиями, равно как и свобода выбора и контроль над своими избранниками во власти. Для русского человека это все ценностью не является, или, по крайней мере, он не готов их отстаивать. Можно сказать, что только тогда, когда в обществе назреют перемены, оно воспользуется предоставляемыми коммуникативными возможностями.