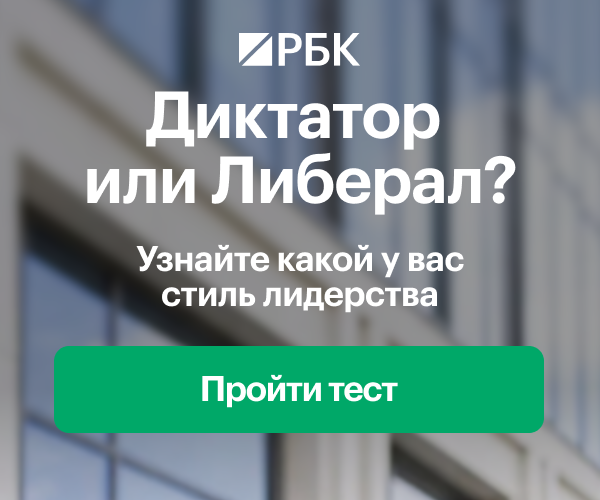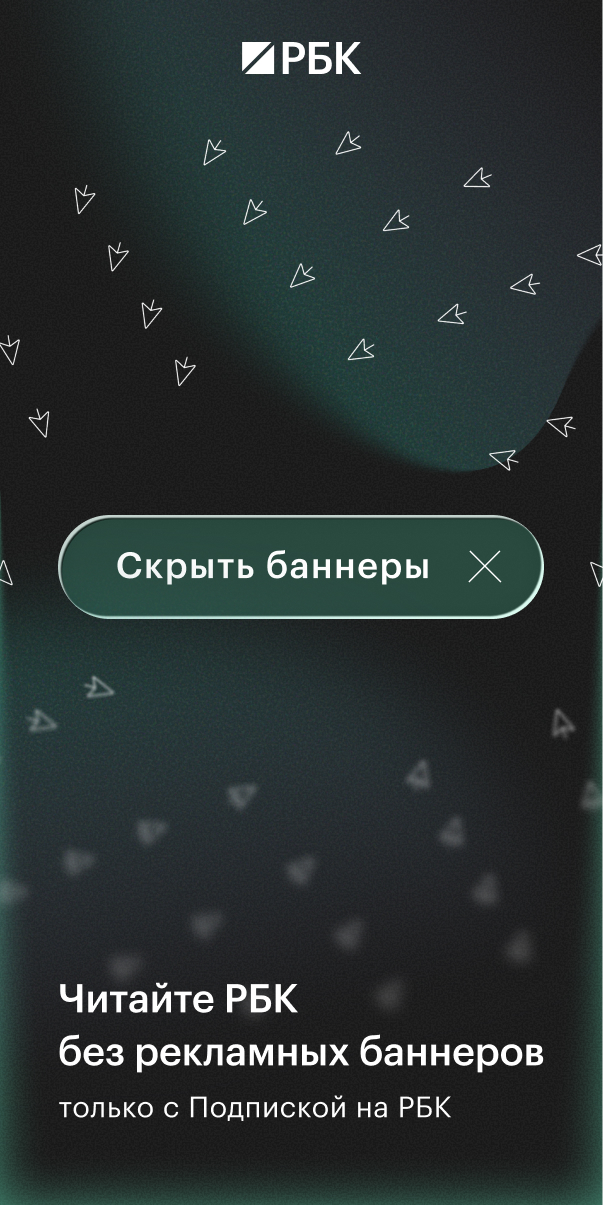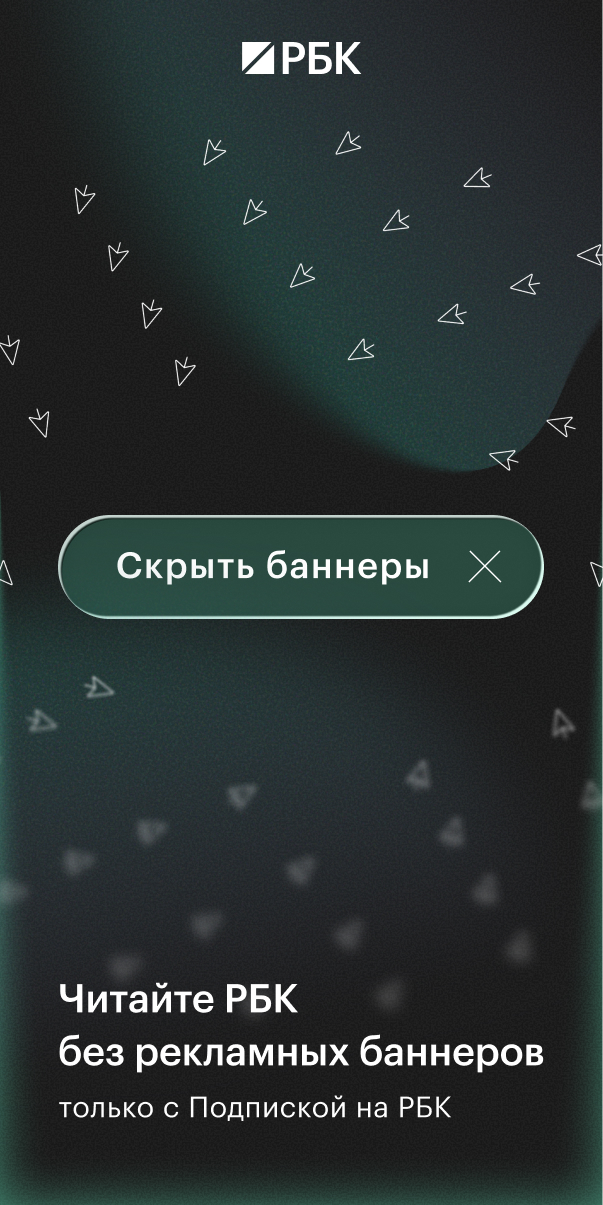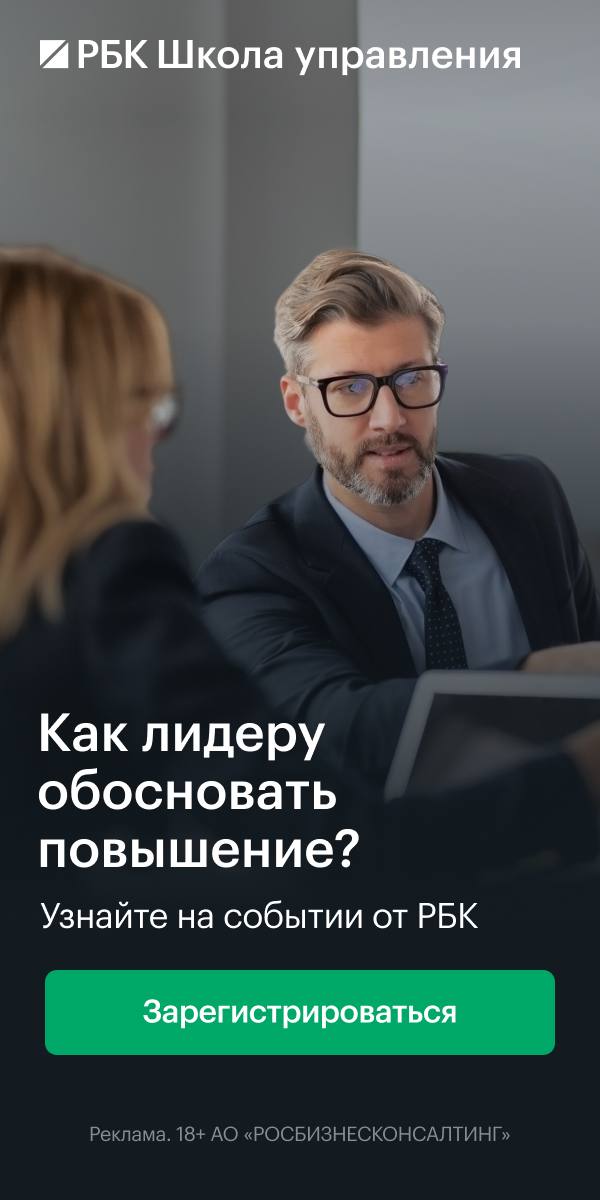Возвращение идеологии: как стратегии развития России обновляют к выборам
Приступы активности в сфере стратегического планирования синхронизированы у нас с выборами главы государства. В общем виде это естественно: кандидаты такого уровня и должны выступать с масштабными проектами. Но в типовых модельных ситуациях это связано с конкуренцией разных претендентов и программ с шансами на смену руководства. Если же ротация высшего звена в силу тех или иных причин заранее исключена, выдвижение стратегий приобретает скорее ритуальный характер. Это резко повышает идеологическую нагруженность проектов и значение внешних эффектов — «художественное впечатление» становится важнее «техники исполнения». Как ни парадоксально, при затяжных правлениях идеологические развороты и прыжки в таких программах часто оказываются особенно разнообразными и крутыми.
От стабильности к инновациям
Заранее оговоримся, что пока речь идет об идеологии в традиционном смысле слова, прежде всего об артикулированной «идеологии от государства». В стабильных царствованиях никто не мешает менять программы в любой момент, реализуя их в рабочем порядке. Однако имитация выбора влечет за собой имитацию поиска идеи. К нынешней конкуренции стратегий страна подошла через длительное раскачивание маятника между модернизмом и традиционализмом с разворотами на 180 градусов. На фоне этой богатой ретроспективы содержание всех нынешних проектов становится более понятным, хотя и менее осмысленным. Их оценка и сама суть зависят от того, что в подобных проектах уже было и чего еще не было. От этого зависит, что именно сейчас у нас конструируют — цифровые технологии, велосипед или грабли.
До начала 2000-х годов внятной и развернутой идеологии у власти не было. Заигрывания с «национальной идеей» в середине 1990-х способствовали реабилитации идеологического, но, вопреки распространенной легенде, на заготовку идей для нации «в твердой графике» не претендовали.
Приход Путина был обставлен как возвращение работоспособной, эффективной, сильной и независимой власти («восстановление государства»), но скорее в персонифицированных образах, чем в оформленных идеологемах. Даже принцип «равноудаленности» от олигархата выглядел скорее тактическим ходом, чем идеологией.
Если не считать «войны за целостность», первой идеологемой с почти универсальными интегративными возможностями стал концепт «стабильности» (от «программы Грефа» на старте ЦСР не осталось ничего, кроме этого имени собственного, а сейчас уже и самих воспоминаний). Он вобрал в себя не только смыслы предсказуемости и управляемости, но и повышение благосостояния на фоне фантастической нефтяной конъюнктуры (стабильность как наличие минимальных гарантий). Плюс относительная защищенность от нелегитимного насилия. Хотя если воспользоваться симбиотической терминологией (Макгир — Олсон + Дуглас Норт), здесь имел место более сложный процесс. Часть гастрольного бандитизма переходила в статус бандитизма стационарного, а уже существующий «стационарный бандит» в лице государства резко концентрировал и монополизировал насилие и ренты с перераспределением этих ресурсов не во вред себе. В результате власть резко «равноудалилась»... к своим.
Однако уже с начала 2000-х в системе управления формировался вполне идеологический по уровню претензий тренд. «Стратегия дерегулирования» воплощалась в первом стартовом варианте административной реформы — до того как этот проект волевым порядком прекратили, редуцировав до «рисования квадратиков» с делением ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти) на министерства с подведомственными им агентствами, службами и надзорами. Однако начало этому тренду положила впоследствии ополовиненная, а затем и вовсе свернутая реформа технического регулирования: в ней уже были заложены принципы и схемы системного ограничения административного прессинга и государственного рэкета.
Тем не менее полноценная развернутая стратегия развития опять понадобилась лишь к 2008 году. Предыдущий электоральный цикл обошелся суммарным позитивом «стабильности», всячески подсвеченным ужасами «лихих девяностых», во многом тоже утрированными и мифологизированными.
Выход на масштабную стратегию был связан не столько с новым этапом правления, сколько с неординарностью самого опыта «местоблюстительства». Странным образом в президенты шел Медведев, а лучшие умы ломали головы над «планом Путина». Складывалось впечатление, что перед избранием нового президента предвыборную программу писали для премьера. Но в этой ситуации «план Путина» понадобился бы, даже если бы он сам решил на эти четыре года вовсе отойти от дел. Было важно дать понять, кто при любых перемещениях остается главным и чьи предначертания будет исполнять любой преемник, тем более временный.
Однако первые признаки нового курса просочились в публичное пространство несколько раньше — со словом «инновации» (впоследствии набившим оскомину, но тогда казавшимся свежим, для многих даже непонятным). Уже чувствовалось, что «стабильность» вызывает привыкание и себя исчерпывает. Актив начинал уставать от передышки — вновь хотелось броска вперед.
Сейчас происходит нечто подобное: традиционные ценности (обновленная версия «стабильности») приедаются еще быстрее, тем более что под «идентичностью» с «кодами» куда меньше реальных достижений, чем было под «стабильностью» середины 2000-х годов.
От инноваций к модернизации
Если учитывать скрытые процессы, окажется, что модернизационный тренд зарождался еще в первой половине 2000-х годов, когда на Старой площади заговорили о «преодолении технологического отставания». Отчасти в этом был поиск новой игрушки, призванной сменить несостоявшиеся институциональные реформы начала правления. Это была странная инверсия: начали делать необходимое, но на полпути бросили, задним числом занявшись оформлением исторического контекста и стратегических целей. Это как, почти пристрелявшись, отложить оружие и заняться украшением мишени. Если есть понимание необходимости смены модели — со «снятием с иглы», диверсификацией, инновациями и экономикой знания, то и надо начинать с того, с чего начали, — с институциональных реформ.
Что касается масштабов бедствия и проекта, то здесь эволюция от просто инноваций к комплексной, системной модернизации прошла довольно быстро. Была сформулирована задача «смены вектора развития» — преодоления опасной зависимости от экспорта сырья и импорта товаров и технологий. Казалось, пришло понимание, что нефтегазовое благоденствие уже не так надежно и уж точно не вечно, а потому менять базовую модель необходимо радикально и заранее — вчера. В феврале 2008 года весь драматизм ситуации выразил президент в докладе «О стратегии развития России до 2020 года», заявивший, что следование инерционному сценарию просто опасно, так «мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни ее нормального развития, подвергнем угрозе само ее существование, говорю это без всякого преувеличения».
Несмотря на максимальную угрозу («само ее существование») и специальное усиление («без всякого преувеличения»), должного эффекта даже это не произвело, хотя идея спорадически тиражировалась. Один из кандидатов в преемники тогда же заявил в Дубне: «Технико-внедренческие зоны спасут страну, когда обрушится сырьевая экономика». Сильная формулировка: не «если», а именно «когда» — без вариантов.
Все осталось на уровне риторики, хотя четыре года медведевского президентства идеологему модернизации радостно эксплуатировали. Сложился целый вокабулярий прогресса: экономика знания и человеческий капитал, инновации, технопарки и технико-внедренческие зоны, прорывные направления и якорные проекты, венчуры, инкубаторы, инновационные «посевные», передача исполнителям интеллектуального продукта, произведенного за счет бюджета, коммерциализация результата НИР...
Сейчас этот словарь сильно обеднел, а его термины утратили прежнюю магию — достаточно прочитать конкурирующие стратегии, особенно их краткие варианты и презентации. Не нужен даже контент-анализ с исследованием частотности словоупотребления.
Однако здесь важнее заметное снижение самой идеологической претензии. Очень много технологии и типового набора в жанре «системы мер», но куда меньше идейной суггестии, целей и принципов, большого контекста — глобального и исторического. Программы будто не глядя перешагнули через идеологию традиционных ценностей, идентичности и культурного кода, особой миссии и непревзойденных глобальных преимуществ в сфере духовности и морали. Но не до конца: пока они больше напоминают ослабленную тень модернизационных идей второй половины 2000-х — и по вялости мотивационной части, и по составу проекта. Достаточно того, что драматизм проектов резко занижен игнорированием одной только проблемы дефицита времени и угрозы необратимости отставания — с анализом зоны принятия решений и точек невозврата.
Идеологической последовательности, политической воли и общего драйва не хватило, даже когда десять лет назад капитан со всей определенностью объяснил себе, команде и пассажирам, что «Титаник» идет прямо на айсберг. Курс не меняется, ледяная гора все больше, но это уже тема отдельного разговора.