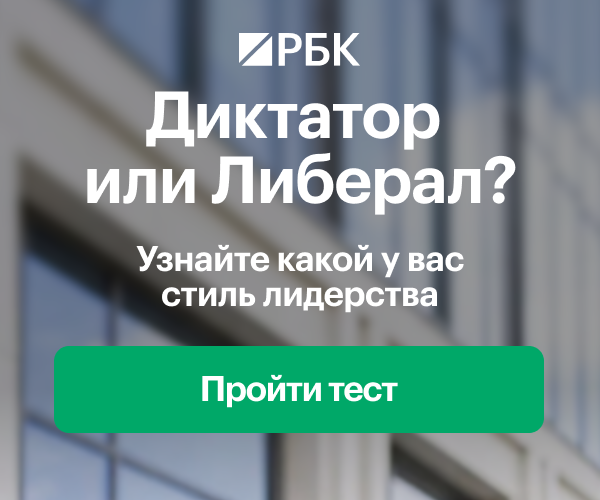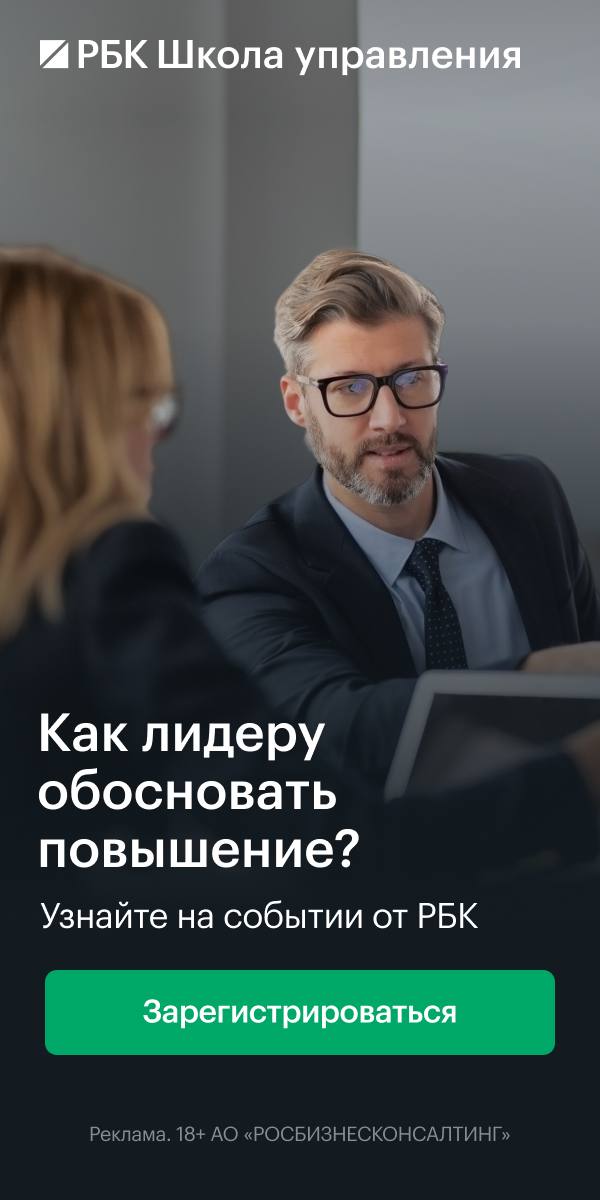Россия в 2020 году: какой сценарий будет выбран?
Сценарий для России на следующие пять лет уже во многом определился. У экономики останавливается «мотор», у нас нет реальных инвестиций для роста. От этой главной проблемы и приходится отталкиваться при выборе пути. А таких путей несколько. Либеральный – когда хороший инвестиционный климат привлекает частные деньги. Мобилизационный – когда при плохом инвестиционном климате вы вбрасываете государственные деньги и пытаетесь самостоятельно раскрутить экономику. Есть и третий – инерционный: расходуются резервы и предпринимаются шаги одновременно во все стороны. Эти полумеры минимально подпитывают экономику, но глобальных сдвигов не происходит.
В последние лет пять Россия шла по инерционному пути, чему способствовала высокая нефтяная рента. Сейчас, ввиду заметного ухудшения дел в экономике, вероятность подобного сценария снижается. Вероятность либерального сценария – с резким улучшением инвестиционного климата – также невелика. Работа по улучшению делового климата идет, но крайне медленно. При снятии определенных барьеров для бизнеса одновременно наращивается налоговое бремя. Вместо того чтобы поднимать собираемость налогов при сохранении или даже снижении ставок, было решено латать дыры в региональных бюджетах путем введения новых налогов.
При этом в катастрофические прогнозы снижения цен на нефть верится слабо. Сейчас нагнетаются панические настроения. Конец света в отдельно взятой стране – это вообще одна из любимых русских национальных сказок. Но падение цен на нефть – следствие не мирового антироссийского заговора, а общего ухудшения мировой экономической ситуации, замедления роста экономики Китая и конкуренции нефтепроизводящих держав с новыми американскими сланцевыми проектами. Эти вполне рыночные факторы уменьшают спрос и увеличивают предложение, цена падает.
Но если говорить о дальнейших перспективах, то есть факторы более глубокого порядка. Нефть за $50 для мировой экономики означает резкое ускорение Китая и Индии при торможении США, Европы и Японии. В принципе, в интересах развитых стран мира удерживать цену на нефть – например, путем накопления резервов, – на уровне, который бы ограничил конкурентоспособность новых индустриальных стран, а с другой стороны, позволял бы поддерживать разработки той же самой сланцевой нефти. Поэтому можно прогнозировать, что цены на нефть в скором времени вновь пойдут вверх.
Рубль тоже не может рушиться беспредельно. Резкое падение доходов бюджетников и пенсионеров будет означать подрыв доверия к существующей власти со стороны ее основного электората. И не надо забывать, что крупными участниками валютного рынка являются госкомпании, среди которых есть и экспортеры. Поэтому у власти существуют и другие существенные инструменты воздействия на курс рубля, помимо ключевой ставки и валютных интервенций (например, ручное управление госкомпаниями).
Предпринимательский климат могла бы улучшить либерализация экономики. Однако на деньги российских инвесторов надеяться не стоит. Единственный фактор, способный побудить их прийти в Россию из-за рубежа, – санкции и риски, связанные с офшорами. Но своих денег все равно мало для запуска серьезного инвестиционного процесса, а сравнительное ужесточение борьбы с офшорами на Западе – слабый стимул для того, чтобы частные инвестиции потекли рекой в Россию.
При этом санкции Запада в отношении России имеют шанс затянуться. Их продление зависит не только от того, что происходит в Донбассе и на дипломатических аренах, но и от соотношения групп интересов в санкционирующих и санкционируемых странах. «Игра в санкции» оказывается выигрышной для некоторых распределительных коалиций с обеих сторон, прежде всего тех, кто заинтересован в переделе рынков и госбюджетов. Это увеличивает шансы для мобилизационного сценария, выделения государственных денег на большие проекты –чаще всего большим государственным и окологосударственным компаниям.
Таким образом, наиболее вероятным для России на ближайшие пять лет оказывается мобилизационный сценарий. Можно ожидать крупных вложений в инфраструктуру (магистрали, порты, авиационные хабы, оптико-волоконные линии) – это хорошее антикризисное средство и хороший мультипликатор. К слову, строительство дорог всегда положительно сказывается на развитии бизнеса. И не стоит кивать на коррупцию: коррупция – это налог, который мы платим за плохое качество институтов. Пока мы живем с плохими институтами, мы его будем платить. Кроме того, государственные вложения – это своего рода магнит, который притягивает дополнительные инвестиции.
Наверняка в рамках мобилизационного сценария будут возникать и инновационные попытки в оборонном комплексе. Там еще сохраняется технологический уровень, позволяющий выдерживать конкуренцию на мировых рынках.
Рецессия накроет нас в 2015 году. Затем стартуют инфраструктурные проекты, которые должны будут дать видимые и в темпах строительства, и в статистике результаты где-то к 2017–2018 году – как раз когда в России должны будут состояться президентские выборы. Но сразу после 2018 года государственные инвестиционные ресурсы будут во многом исчерпаны. Тогда и встанет вопрос о смене курса.
Примерно к 2020 году мировая экономическая конъюнктура начнет заметно меняться. Сейчас глобальный рост замедлился, и в ближайшие годы не ускорится: глобализация потребовала очень жесткой и тонкой координации мирового рынка, а она оказалась невозможной. Реакцией на это становится регионализация и ослабление международных механизмов взаимовлияния. Исследования показывают при этом, что к 2020-м годам главным дефицитным фактором мирового развития окончательно станут не природные ресурсы (которые у России есть), а человеческий капитал, который мы не можем удержать и воспроизводить с нужной скоростью. Именно поэтому 2020-е годы будут переломными и для России.
Может ли Россия жить без нефти? Стоит напомнить, что Россия, кроме нефти и газа, производит еще одно благо мирового значения – мозги. Несмотря на неудачные реформы в сфере образования, репрессии и кризисы, нашей стране удается рождать одно за другим поколение талантливых людей. Это во многом вопрос культуры и ее воспроизводства. Правда, пока мы ничего не получаем за экспорт умных людей. Академик Револьд Энтов как-то оценил доходы от одной только идеи телевидения, вывезенной Зворыкиным за пределы нашей родины, примерно в 20 российских ВВП. Сергея Брина тоже вполне можно оценить в 5-7 наших ВВП – может, даже больше. Чтобы не терять мозги и доходы, нам надо серьезно перестраивать все модели и общественные институты. Пока развилка выглядит так: либо мы сырьевая страна, либо умная.
Есть профессии, где у России действительно хорошие шансы на лидерские позиции. Мы изучали этот вопрос (в исследовании ИНП «Общественный договор») на основе сравнения эмигрантской статистики по основным трудовым рынкам – США, Израиль и Германия, – куда уезжают наши соотечественники. Видно, что математика, физика, IT – это сферы, где у нас по-прежнему сильные выпускники. Есть сферы, где позиции слабее, но присутствие эмигрантов из России там все равно ощутимо: спорт, медиа, искусство, медицина, биология. То есть и реальная ситуация с российским образованием не так ужасна, как кажется, если мерить ее экономическими результатами.
Есть у нас и особенности организации труда и производства, которые тоже можно задействовать для такой трансформации экономики. Это, например, способность аврально производить выдающиеся результаты, добиваться внезапных прорывов. Штучное производство, вроде водородной бомбы, космического корабля или гидротурбины, России всегда лучше удавалось, чем массовое производство холодильников и автомобилей. Теоретически, с учетом этих особенностей, можно было бы строить промышленную политику и вписываться в мировые ниши, связанные с уникальными продуктами и опытными сериями.
Тем не менее выстраивать экономику, основанную на человеческом капитале, – это для России очень далекая перспектива, такие сдвиги займут десятилетия. На этом пути два вида барьеров: формальные институты и неформальные. Законодательство изменить не так уж трудно. Но законодательство не приживется в силу культурных препятствий и поведенческих стереотипов: склонности наших соотечественников избегать неопределенности, конфликтного индивидуализма, ощущения невозможности повлиять на власть, отсутствия навыков кооперации с другими людьми. Только на то, чтобы такие паттерны изжить, нужно потратить как минимум 10–15 лет целенаправленной образовательной и культурной политики.
Можно ли начинать такие сдвиги в условиях мобилизационных проектов – большой вопрос. Скорее, нет. Особенно учитывая, что в 2014 году в России фактически возник новый общественный договор, увязывающий ощущение жизни в великой державе с готовностью общества к экономическим и социальным ограничениям. При таком общественном договоре инновационный процесс возможен, но идти он будет скорее по советскому образцу, когда уровень развития оборонного комплекса будет сильно оторван от гражданской промышленности. Хотя такая стратегия и даст текущие положительные результаты для экономики, она достаточно быстро натолкнется на ограничения в качестве человеческого капитала. Очень трудно совершать технологические прорывы без высококвалифицированных кадров, а нынешняя структура экономики не позволяет производить их в достаточном количестве и сохранять. Это будет подталкивать к новой модели общественного договора – но сам вопрос этот встанет не ранее чем через четыре-пять лет.