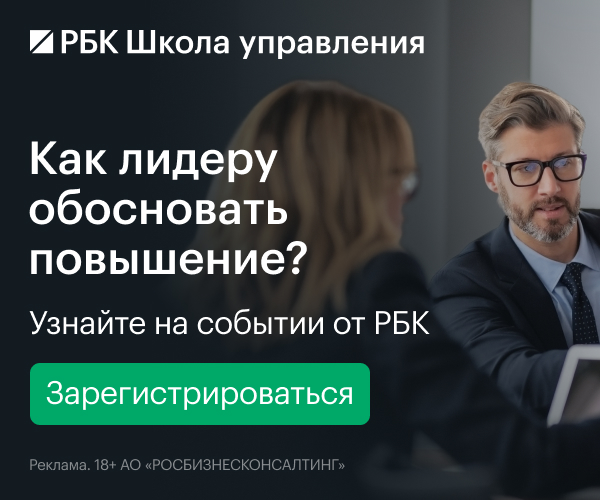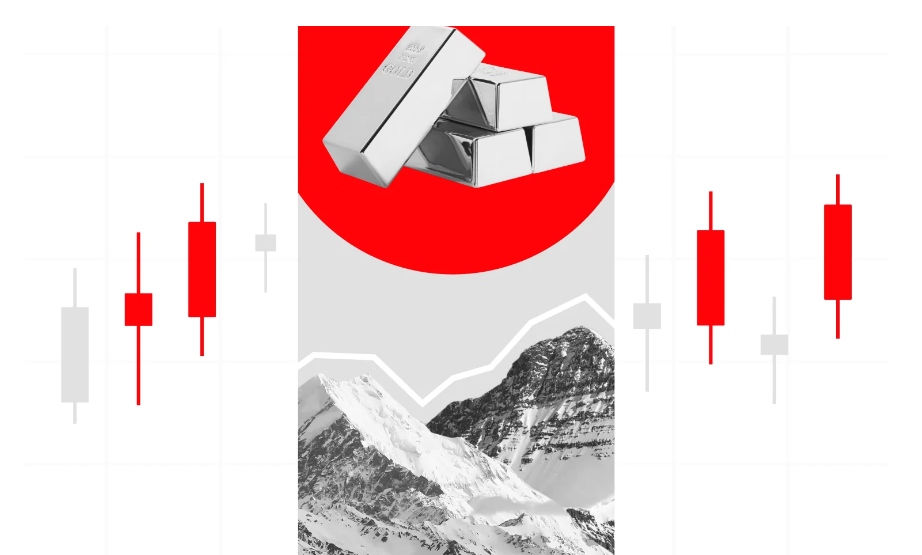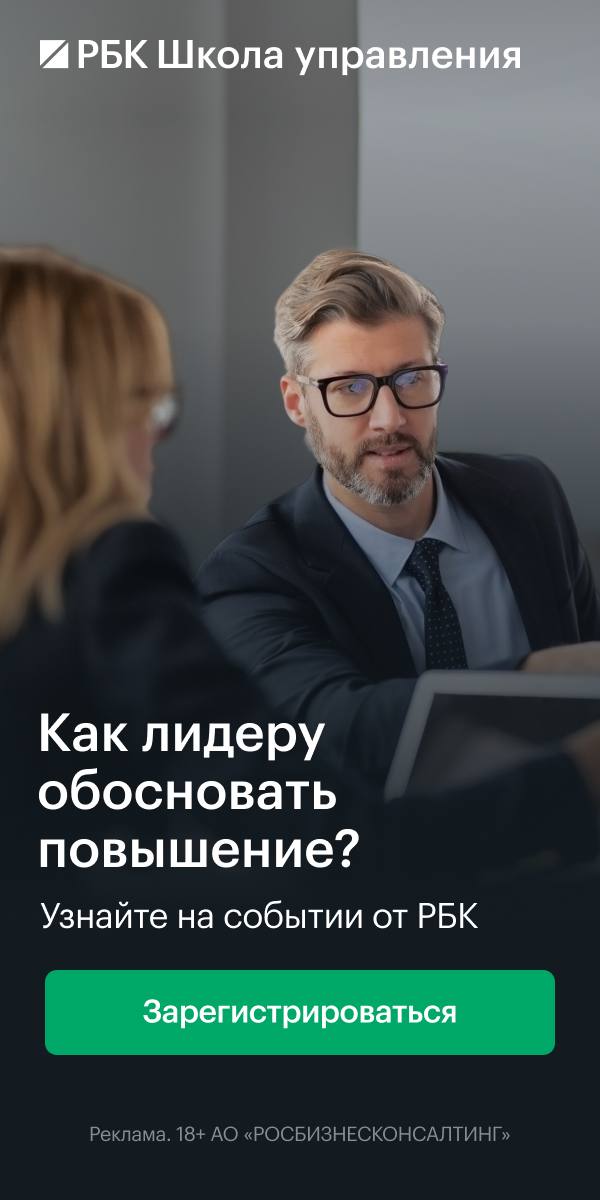Погоня за малым рублем: почему российской экономике вредны новые налоги
Минфин планирует поэтапно распространить на всю Россию налог на самозанятых, который пока взимается лишь в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С января 2020 года число таких субъектов увеличится до 23, в основном за счет доноров федерального бюджета (Сахалинской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) и регионов, где расположены города-миллионники. А с июля налог начнут взимать по всей стране, в том числе из-за результатов эксперимента, которые, по мнению Минфина, продемонстрировали популярность нового налогового режима.
Впрочем, о широкой востребованности нового налога говорить рано: к началу ноября, по данным Минфина, как самозанятые зарегистрировались 240 тыс. человек — почти в пять раз меньше суммарного числа неформально занятых в пилотных регионах (1,17 млн человек), зафиксированного Росстатом по итогам 2018 года. Администрирование налога сопряжено с издержками для плательщиков, свидетельство чему — блокировка банковских счетов, с которой при переходе на новый режим столкнулись многие самозанятые: формально не будучи индивидуальными предпринимателями, они вынуждены использовать для предпринимательской деятельности счета физлиц, тем самым нарушая договор с банком. Это среди прочего негативно отразилось на сборах, которые по итогам первых восьми месяцев года составили всего 402,9 млн руб., как следует из данных Федерального казначейства. Ничтожная сумма сборов нового налога на фоне немалых усилий по его введению хорошо показывает странности фискальной политики российских властей.
Профицит вместо спроса
С конца 2017 года по октябрь 2019-го Фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличился почти в два раза — с $65,2 млрд до $124,5 млрд. Ликвидная же часть ФНБ за тот же период выросла с $38,2 млрд до $98,6 млрд, а по факту — до $137 млрд (8,4% ВВП), учитывая объем купленной Минфином за прошедшие десять месяцев валюты ($38,7 млрд, по оценке экономиста Кирилла Тремасова), которая формально будет зачислена в фонд только в следующем году. Отсюда и спор о том, куда вкладывать средства ФНБ, после того как его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Однако уместнее было бы для начала понять, зачем вообще концентрироваться на скоплении резервов, если их прирост не поддерживает внутренний спрос, слабость которого не дает экономике выйти из кризиса.
Хотя по итогам третьего квартала Росстат отрапортовал о росте реальных располагаемых доходов на 3% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), потребительская активность продолжает снижаться. Возобновил падение начавший было восстанавливаться российский авторынок: показав за 2017–2018 годы 26-процентный кумулятивный прирост, продажи новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2019-го в годовом выражении сократились на 2,4%. Ухудшается ситуация и в продуктовой рознице, что видно по динамике сопоставимых продаж (LFL-sales) «большой тройки» российских ретейлеров: у X5 Retail Group после 5% в двух первых кварталах года в третьем квартале рост замедлился до 3,9%, у «Магнита» в период с июля по сентябрь продажи и вовсе снизились на 0,7%, а у «Ленты» — на 0,5%. Что уж говорить о спросе на жилую недвижимость, ввод которой по итогам первых девяти месяцев года снизился на 9,6% в Московской области, на 19,6% — в Ленинградской и на 24,9% — в Санкт-Петербурге.
Слабый спрос диктует инфляционную динамику. Превысив в начале года 5%, годовая инфляция в октябре замедлилась до 3,7%, а по итогам года составит не более 3,3%. У бизнеса не остается пространства для повышения расценок, тем более что расходы граждан все труднее поддерживать за счет потребительских займов: к октябрю, по данным ЦБ, совокупная долговая нагрузка россиян (отношение выплат по кредитам к располагаемым доходам) достигла 10,6% — максимума с июля 2012 года.
Фискальный рычаг
В такой ситуации уместно было бы использовать фискальную политику для стимулирования внутреннего спроса, причем без ущерба для устойчивости бюджета. Ее точно, например, не поколеблет мораторий на повышение несырьевых налогов, сборы по которым, согласно данным Минфина и ЭЭГ, выросли с 9,4% ВВП в 2015 году до 11,4% ВВП по итогам первых восьми месяцев 2019-го. Бюджетной стабильности не навредит и полная отмена налогов на совокупный доход (единого сельхозналога, налогов по «упрощенке», налога на самозанятых и др.), составивших за январь—август лишь 0,6% ВВП. Вместо того чтобы собирать крохи с тысяч мелких предпринимателей, правительству стоило бы освободить их от каких-либо выплат в бюджет и тем самым подстегнуть занятость в малом и среднем бизнесе.
Поддержать внутренний спрос можно также за счет наращивания прямых социальных выплат, в частности увеличения доли заработных плат в структуре расходов консолидированного бюджета на здравоохранение, которая в прошлом году составила лишь 36,4% (1,21 трлн из 3,32 трлн руб.), и образование — 31,7% (1,16 трлн из 3,67 трлн руб.). Доведя долю зарплат хотя бы до 50%, правительство подхлестнуло бы экономический рост, поскольку бюджетники почти наверняка потратят дополнительные средства на базовые потребительские товары.
На пользу пойдет и простое повышение бюджетной дисциплины, которая в последние годы снижалась: если к концу 2017 года неизрасходованными остались 220 млрд руб., то в 2018-м — уже 778 млрд руб., а по итогам 2019-го, согласно оценкам Счетной палаты, эта сумма может достичь 1 трлн руб.
Наконец, еще один путь — докапитализация Пенсионного фонда за счет ФНБ, который пока что используется правительством лишь для покрытия текущего дефицита ПФР (1,1 трлн руб. в 2018 году). ФНБ можно было бы задействовать и для единовременных прибавок к пенсиям — как раз за счет ликвидных средств свыше 7% ВВП. В этом случае граждане почувствовали бы на себе эффект от прироста «кубышки», которая, судя по трехлетнему бюджетному прогнозу правительства, к концу 2020 года увеличится до 9,8% ВВП, а по итогам 2021-го — до 11,3% ВВП.
Прокризисная политика
Вместо этого в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложен рост налоговой нагрузки: только в 2020 году ненефтегазовые доходы должны будут увеличиться на 800,2 млрд руб., в том числе за счет повышения НДС на пальмовое масло, утилизационного сбора на колесные транспортные средства и акцизов на алкоголь. Расти налоги будут и на региональном уровне, в частности из-за намеченной на 2021 год отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД), плательщики которого среди прочего освобождены от налога на прибыль (юридические лица), НДФЛ (индивидуальные предприниматели) и НДС (кроме операций по импорту). Тем самым Минфин рассчитывает привлечь в консолидированный бюджет 51 млрд руб. дополнительных доходов, хотя в реальности поступления могут сократиться из-за издержек для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, использующих сегодня ЕНВД. По оценкам Института экономики роста, половина из них (1,1 млн) могут прекратить деятельность.
Правительство в очередной раз делает выбор в пользу повышения налогов. Одна из причин — память о позднеперестроечном и постсоветском бюджетных кризисах, которые оба раза (в 1991 и 1998 годах) увенчивались фискальной катастрофой из-за неспособности финансировать дефицит. Другая причина — в эффекте санкций, ограничивших доступ России к рынку государственных заимствований и во многом вынудивших правительство работать на кубышку, которую можно будет распечатать в очередной «черный вторник». Сказывается и инерция антикризисных решений 2014 года, когда на фоне внешних шоков и двукратной девальвации во главу угла была поставлена консолидация бюджета, которая на первом этапе действительно сыграла стабилизирующую роль.
Однако затянувшаяся стагнация требует от правительства нетривиальных решений в бюджетной политике, которая де-факто осталась единственным рычагом, способным простимулировать спрос. Тем более что все другие решения, будь то масштабное дерегулирование, глубокая демонополизация или поступательная отмена санкций, находятся далеко за рамками повестки дня.