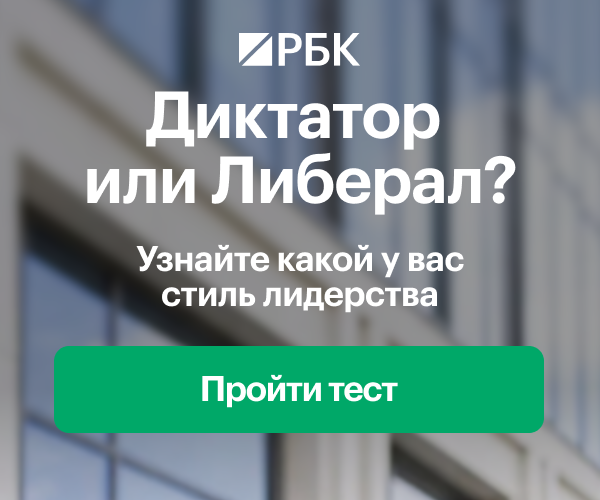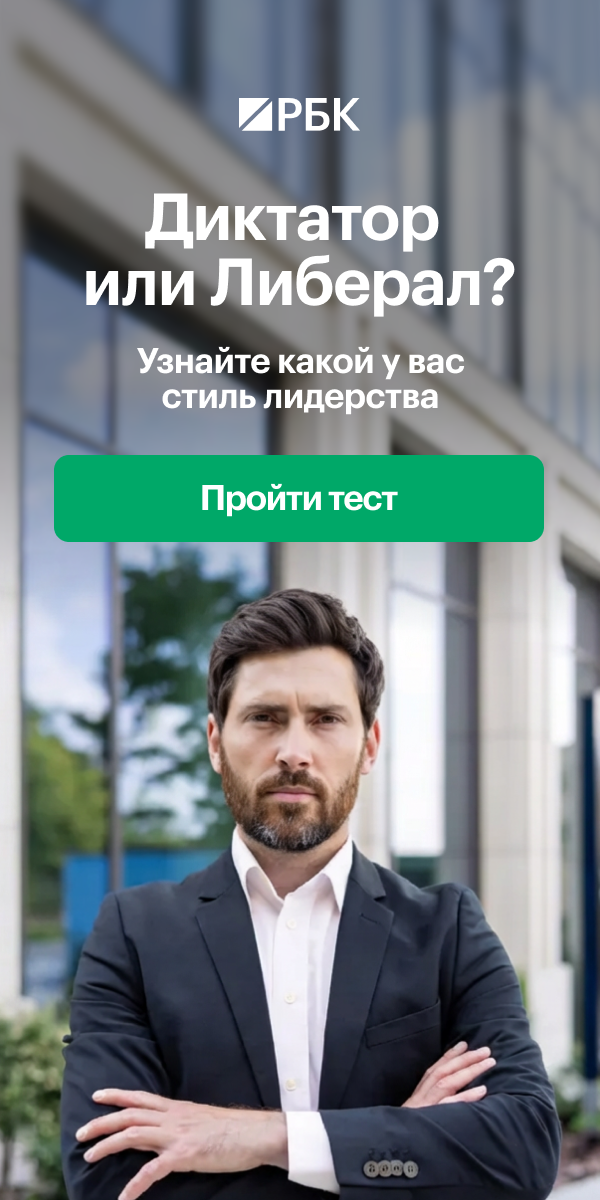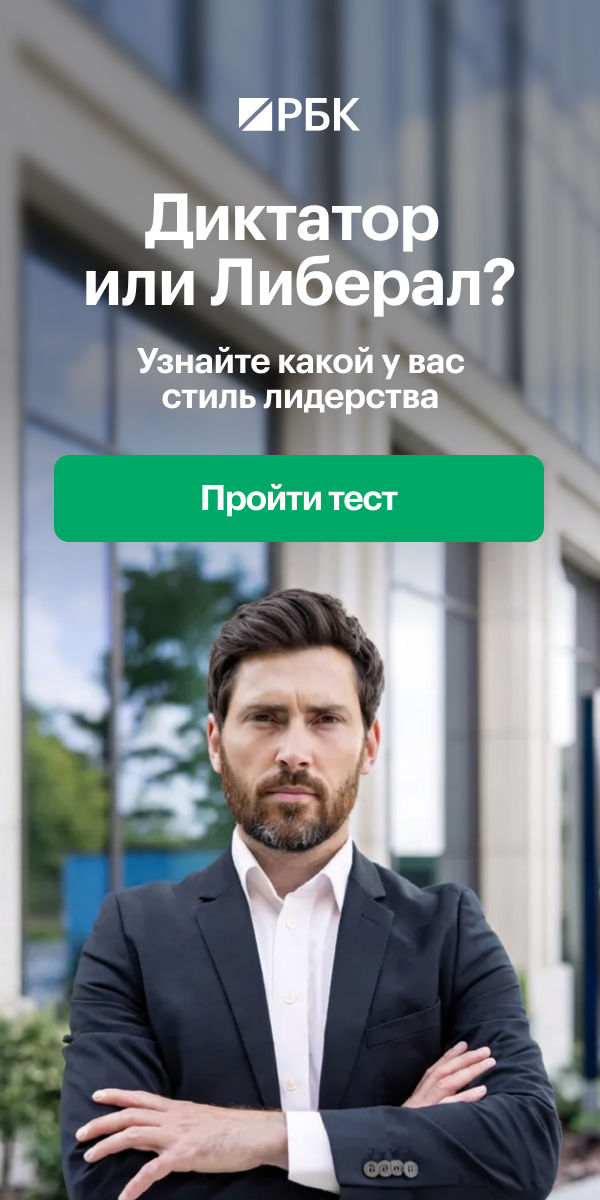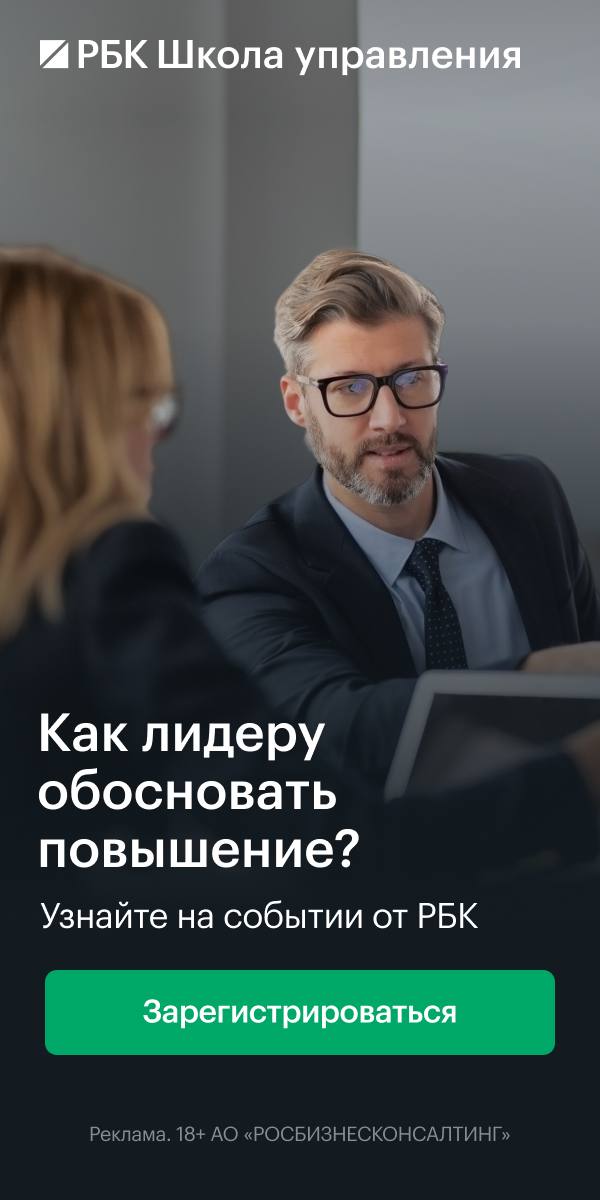Эмиссия для своих: почему экономике не поможет «печатный станок»
Низкая инфляция как правило хорошего тона
Спору нет — российская экономика находится в критическом состоянии, все глубже погружаясь в болото. Внешне цифры пока выглядят не очень страшно: подумаешь, 3,7% падения в прошлом году, в этом и того меньше будет, а там и нефтяные цены подрастут, значит, и спад прекратится. Но эти цифры не отражают резкого ухудшения качества экономики, в которой иссяк потенциал творческого развития, в которой не создаются новые товары, в которой свой бизнес не желает инвестировать, опасаясь повторения «дела ЮКОСа — «Башнефти» — Домодедово», а иностранный бизнес инвестировать не хочет, отчетливо понимая политические риски.
Такое положение не нравится никому — ни президенту, ни системной оппозиции, ни несистемной, ни министру финансов, ни министру экономики, ни руководителю ФСБ. И вполне понятно желание многих экспертов если не сделать, то хотя бы посоветовать, что можно было бы сделать, для того чтобы хоть как-то оживить экономику. Советов слышится много, все чаще и чаще среди них можно услышать высказанные в разной форме предложения об использовании для этой цели «печатного станка». Если абстрагироваться от конкретных механизмов, то речь идет о том, чтобы Центральный банк начал в значительных объемах кредитовать инвестиционные проекты компаний и предприятий под низкие проценты.
Сказать, что эти предложения обладают хоть какой-то новизной, невозможно. И спорить с их авторами всерьез, доказывая им, что как ни крути, а дважды два будет четыре, нет никакого желания. Использование «печатного станка» для нужд власти практикуется давно, практически с момента появления первых государств и возникновения денежных систем. Наиболее известными формами этой политики были снижение содержания драгоценных металлов в монетах, замена более ценных металлов на менее ценные, чрезмерный выпуск в обращение бумажных денег. Полученные средства властители пускали и на текущее потребление, и на различные инвестиционные проекты. Но каждый раз эта политика приводила к одному и тому же экономическому результату — к разгону инфляции, который частенько сопровождался социальными протестами.
По мере того как человечество накапливало опыт и умнело, в наиболее развитых странах мира выкристаллизовывалась теория современных центральных банков — государственных институтов, наделенных особым статусом, независимых в своей политике от исполнительной и законодательной властей, первой и главной задачей которых является стабильность цен, то есть низкая инфляция. В своем окончательном виде она оформилась относительно недавно, в конце 1970-х годов, после развала мировой финансовой системы, основанной на применении золотого стандарта.
После череды масштабных финансовых кризисов в развивающихся странах (Мексика в 1994–1995-х, Юго-Восточная Азия в 1997-м, Россия в 1998-м, Бразилия в 2000-м, Аргентина в 2002-м) концепция независимости центральных банков стала универсальной. И это принесло свои плоды — в XXI веке крайне тяжело найти случаи не только гиперинфляции (которая в XX веке бушевала в разных регионах мира), но и просто высокой инфляции. Количество стран, в которых за прошедшие 15 лет инфляция превышала 30%, меньше, чем количество пальцев на двух руках. И совсем уже редко, где высокая инфляция сохранялась больше, чем один год.
Низкая инфляция стала нормой жизни, правилом хорошего тона в современном мире. В 2015 году больше половины из 190 стран мира, экономики которых Международный валютный фонд включает в свой обзор, жили с инфляцией ниже 3%. В связи с этим «почетное» 7-е (!!!) место с конца, которое заняла Россия, наглядно демонстрирует, что и с пониманием вреда высокой инфляции в нашей стране не все обстоит благополучно и независимость Центрального банка вряд ли является полноценной.
После кризиса 1998 года российские правительства, несмотря на громкие декларации, несильно заботились о борьбе с ростом цен. С одной стороны, на них давили государственные монополии, которые требовали ежегодной индексации их цен и тарифов по схеме «инфляция плюс». С другой — Минфин очень хорошо понимал, что «сверхплановый» рост цен увеличивает доходы казны и улучшает видимость положения дел в бюджетном хозяйстве. Кроме того, население хотя почти все время называло рост цен одной из самых болезненных экономических тем, никогда не выступало против проинфляционной политики властей.
В результате тема подавления инфляции до приемлемого в современном мире 3-процентного уровня ставится перед российским обществом как пучок репейника перед мордой осла Тиля Уленшпигеля — все время перед тобой, но никогда недостижим. А ведь любой предприниматель скажет, что попытка составить серьезный бизнес-план на пять—семь лет оборачивается неудачей уже к третьему году, если инфляция превышает 5% в год. Статистики утверждают, что в случае роста цен более чем на 3% в год, точность статистических показателей резко падает. Поэтому задача подавления инфляции в России является одной из первоочередных — попытка обеспечить устойчивый экономический рост при высокой инфляции равносильна попытке построить устойчивый дом, применяя резиновый метр.
Эмиссия не поможет
В связи с этим мне кажется странной сама постановка вопроса о том, что сегодняшние проблемы российской экономики можно решить за счет денежной эмиссии. Во-первых, «печатный станок» в России уже работает достаточно интенсивно. С точки зрения денежной политики использование Минфином средств Резервного фонда абсолютно равносильно предоставлению Центральным банком денег Минфину. А если сюда добавить миллиардные программы санации банков-банкротов, в рамках которых практически бесплатные деньги Центробанка идут на покупку минфиновских ОФЗ, то масштаб текущей эмиссии уже зашкаливает за все разумные пределы. И от разгона инфляции Россию спасает лишь резкое падение спроса населения как следствие падения его реальных доходов.
Во-вторых, прежде чем предлагать любые рецепты спасения экономики, было бы правильным четко объяснить причины ее сегодняшнего кризисного состояния. И если таковыми являются санкции и цены на нефть, то следует объяснить, каким образом эмиссия помогает их преодолеть. Если же проблема в том, что российский бизнес боится инвестировать в развитие, потому что не считает свои права собственности нормально защищенными, то следует обсудить, готов ли Дмитрий Каменщик брать кредиты на развитие Домодедово, находясь под арестом и угрозой реального приговора, под даже самые низкие проценты.
В-третьих, справедливость лозунга «Эмиссия — опиум для народного хозяйства» еще никому не удалось оспорить. Любая попытка занизить цены на ресурсы в экономике приводит к резкому спросу на этот ресурс. Ценой денег в экономике является процентная ставка, управляя которой центральные банки либо стимулируют спрос на кредиты, либо, напротив, его охлаждают. Если в экономике появляется предложение кредита по более низкой ставке, чем равновесная рыночная, то, не сомневайтесь, количество желающих получить такие кредиты будет расти с каждым днем. Если же дешевые кредиты будут дополняться количественными ограничениями (будь то 100 млрд руб. на проектное финансирование, которые готов выделить Банк России, или 1,5 трлн, которые хочет видеть Столыпинский клуб), то выделяться эти кредиты будут не на основании экономических расчетов, а на основании решений чиновников. Чем это закончится? Не надо далеко ходить, посмотрите на то, как мучается в конвульсиях ВЭБ, перегруженный плохими кредитами и неудачными сделками, которые инициировали члены правительства, заседающие в его наблюдательном совете. Или вы думаете, что опыт ВЭБа их чему-то научил? И они начнут работать по-другому?
В-четвертых, деньги в экономике ходят беспрепятственно от одного субъекта к другому. Псевдонаучные рассуждения о том, что «для предотвращения перетока этих средств на валютный рынок, гарантии от их нецелевого, неэффективного использования, а также от возможного влияния дополнительной ликвидности на рост инфляции такое рефинансирование должно быть «связанным», осуществляться с помощью специальных механизмов, по целевым каналам» (простите за длинную цитату из текста доклада «Экономика роста» Столыпинского клуба), могут бесконечно нравиться их авторам. Но как только вы попытаетесь уточнить, а что это за «специальные механизмы» и «целевые каналы», которые будут препятствовать тому, чтобы зарплата, полученная за рытье котлованов, не пошла на потребительский рынок, вы услышите в ответ что-то невнятное. А какой смысл говорить о том, что эти деньги не пойдут на валютный рынок, если ни одна стройка в России не обходится без импортного оборудования и редко какое производство не требует импортных комплектующих, полуфабрикатов, компонентов, для приобретения которых нужна валюта?
Почему же идея использования эмиссии в России так активно поддерживается многими экспертами, бизнесменами, политиками, чиновниками? Мне думается, ответ лежит на поверхности — каждый, хорошо понимая последствия реализации таких идей, искренне надеется на то, что лично он будет в числе первых, кому такие кредиты достанутся; и значит, сможет получить маленькую толику инфляционного налога.