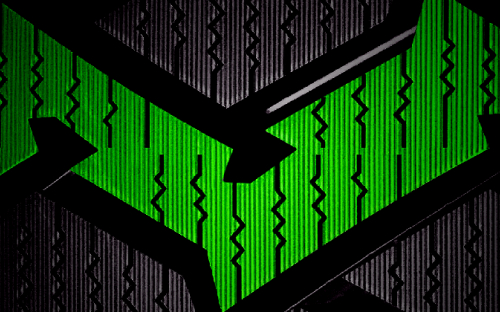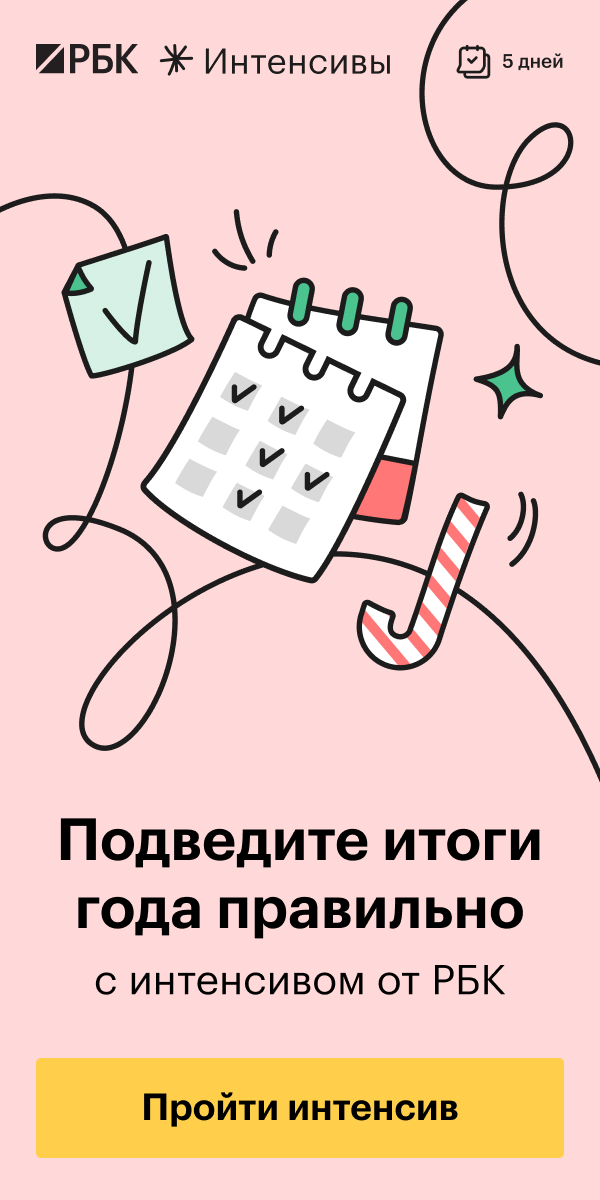Прививка от инноваций: почему стартапы больше никому не нужны
Прошла любовь
В последние несколько лет в России стало модным все, связанное со стартапами. Но волна развития высокотехнологичной индустрии и инновационных производств схлынула. Сейчас нужно констатировать — моде на стартапы приходит конец.
Кризис 2014–2015 годов поспособствовал тому, что венчурные фонды очень быстро заморозили или заметно снизили объемы инвестирования на российский рынок, взяв паузу или же переместив фокус на международный рынок. Вместо поиска инвестиций инновационные предприниматели вынуждены сосредоточиться на заработке.
Основные принципы развития стартапов устоялись в Кремниевой долине, в Калифорнии, откуда и перенесены в нашу суровую реальность. Однако наша жизнь заметно отличается от нарядной картинки из сериала Silicon Valley или репортажей с мероприятий TechCrunch.
В России развитию стартап-движения главный импульс был дан в момент создания фонда «Сколково» (не путать с бизнес-школой «Сколково») и его технологического университета «СколТех». С другого фланга была призвана госкорпорация РВК, чтобы решать инфраструктурные вопросы и помогать крупными инвестициями.
Несомненно, были декларированы многие разумные и полезные идеи и начинания. И даже несмотря на то что спустя всего несколько лет активность заметно снизилась и естественным образом поутих информационный фон, отсчет начала российской стартап-эры можно и нужно вести от периода появления этих компаний. Один из самых заметных итогов тех инициатив — быстрое зарождение нескольких тысяч стартапов, а также появление в нашей стране более чем сотни венчурных фондов различных размеров.
К слову, фонд «Сколково» предлагал настолько привлекательные и даже уникальные условия своим будущим резидентам (в виде получения налоговых и других льгот и в виде возможности получения грантов и минигрантов), что к ним пошел стремительный поток заявок от стартапов всех мастей.
В крупных компаниях, как государственных, так и частных, стали появляться должности типа директор по инновациям / head of innovations. Госкопорациям даже было дано поручение инвестировать не менее 5% своей ежегодной прибыли в хай-тек компании и технологии.
Усталость от инноваций
В 2011–2012 годах каждый месяц анонсировались запуски новых венчурных фондов, независимых или при участии компаний. Мелкие фонды зачастую существовали лишь виртуально, без офиса и команды. Такой «фонд» мог состоять из одного человека, встречи со стартапами назначались в кафе и коворкингах.
Зачастую многие фаундеры (авторы — основатели стартапов) не имели предпринимательского опыта, а иногда даже и опыта работы по найму. Основатель стартапа — студент — обычная картина этого периода. Конечно, сквозь сито первичного отбора такие проекты не просеивались.
Ажиотаж нарастал, одновременно с этим у фондов копилась усталость от низкосортных заявок, тем более что отдельные стартапы, сумевшие получить венчурное финансирование первой волны, уже успели закрыться и довольно быстро. В какой-то момент слово «инновация» набило оскомину, а статус «стартапер» стал иметь негативный окрас. Предприниматель Олег Тиньков удачно уколол стартаперов: «Прекратите делать стартапы, делайте бизнес!»
Компании при общении с фондами стали сталкиваться с «трудностями перевода» с венчурного американского языка на венчурный русский. Например, представитель одного фонда, рассматривая заявку нашего стартапа, критически спрашивал: «А когда ваш проект наберет миллион пользователей в России по аналогии с американским Square?» Но наш продукт (прием оплаты банковскими картами через смартфон и подключаемый к нему терминал оплаты) предназначен для владельцев и сотрудников малого бизнеса, это максимум 400–500 тыс. клиентов на всю страну.
Понимая реалии рынка, видя фактические риски индустрии и общий портрет фаундеров, и фонды, и бизнес-ангелы еще больше закрутили гайки в своих условиях предоставления инвестиций — стали прописывать жесткие ликвидационные преференции, предусматривать легкую смену менеджмента. Например, генеральных директоров — основателей потеряли такие громкие проекты, как LinguaLeo, 2Can, LifePay.
В результате всего за несколько лет стартап-движение сначала резко набрало обороты, а затем заметно успокоилось. Мода прошла, началась работа. Общий фон настроений действующих стартапов — смотреть на зарубежные рынки, там же искать инвесторов.
Сейчас совершенно очевидно, что венчурная схема в России дала сбой, работает только классическая, проверенная десятилетиями модель постепенного роста — наращивать выручку, приближаться к окупаемости, показывать доходность. С ней гораздо легче привлекать финансирование, как заемное/проектное, так и от фондов.
Легкие деньги от венчура закончились, так толком и не начавшись. Нам повезло получить отказ от многих венчурных фондов — это заставило компанию с первых дней учиться продвигать и продавать наш продукт, когда конкуренты раздавали аналоги бесплатно. В итоге мы научились зарабатывать, а они — нет.
Мода прошла, но индустрия зародилась и теперь пусть медленно, но развивается. В результате на рынке останутся сильные фонды, крепкие стартапы и опытные предприниматели.