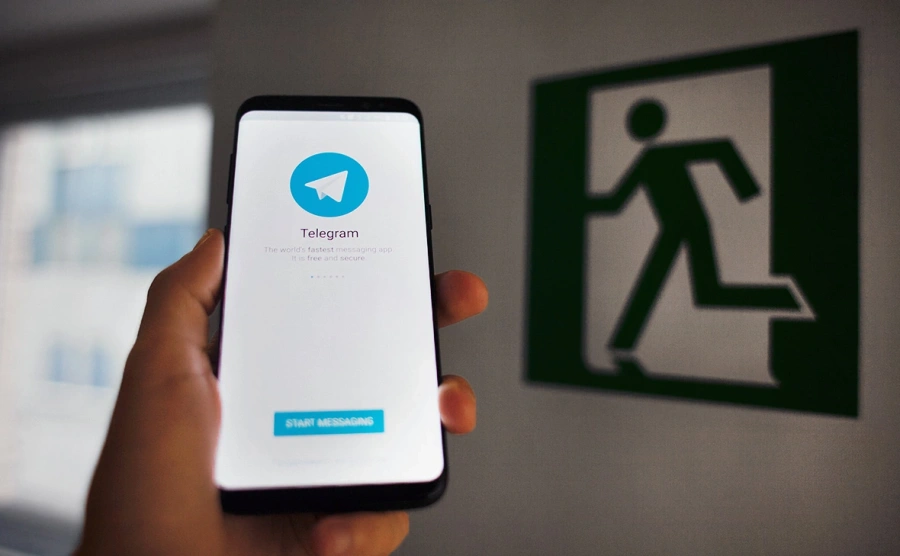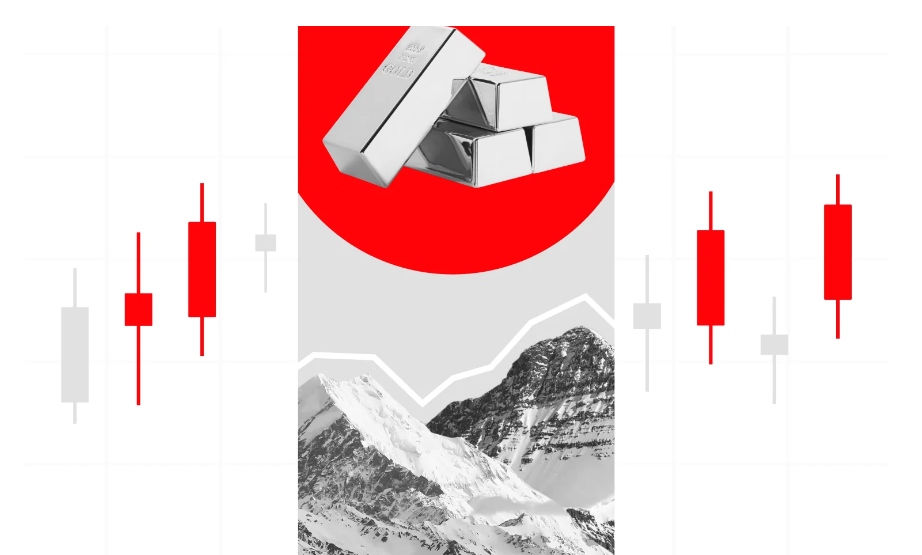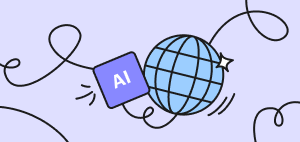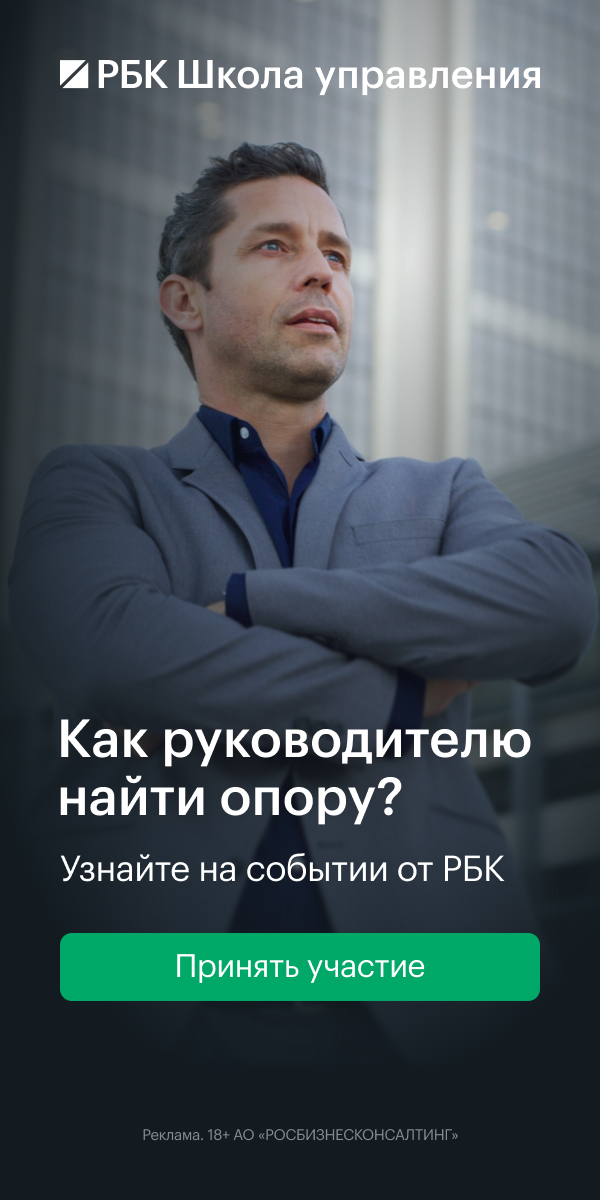Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

Хранение дороже продажи
Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата. Выводы аудиторов есть в распоряжении РБК.
«Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн руб. соответственно», — оценили в Счетной палате.
Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования», объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность (например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества, переставшего существовать в 2008 году).
«Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение», — сказал аудитор Максим Рохмистров, слова которого передала пресс-служба Счетной палаты. По мнению Счетной палаты, территориальные органы Росимущества также «допускали нарушения в бухгалтерском учете, не проводили оценку имущества, поступившего без стоимости».
«Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения», — говорится в выводах СП.
Достоверность в оценках конфискованного имущества тоже вызывает сомнения у аудиторов — например, в Новосибирске стоимость шести наручных часов известных брендов сначала оценили в 136 тыс. руб., а по результатам повторно проведенной оценки — в 1,3 млн руб.
Согласно положению о Росимуществе, оно ответственно за «реализацию конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность» (за исключением недвижимого имущества, включая земельные участки, акций и долей в уставных капиталах компаний). Возможность конфискации в пользу государства прописана в Уголовном кодексе — власти могут обратить в свою пользу деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате преступлений или используемое для финансирования терроризма, экстремизма, преступной организации. Непосредственно изъятием занимаются таможенники, судебные приставы, ФСБ, Росрыболовство, прокуратура, затем конфискат передается в Росимущество.
Пресс-служба Росимущества сообщила РБК, что в течение нескольких лет (до 2017 года) порядок реализации конфиската отсутствовал и изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение. С прошлого года, когда ведомство получило полноценную возможность продавать конфискат, «начался процесс становления и организации» соответствующих процедур. Объем расходов на хранение изъятой продукции и доходов с его продажи во многом объясняется тем, что часть продукции Росимуществу законодательно предписано отправлять на уничтожение, а у многих товаров нет разрешительных документов.
Доплата за конфискат
Самые большие риски возникают при уничтожении или утилизации конфиската, объясняет Счетная палата. «На уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. Однако нормативно эти понятия не определены, не установлены требования к их проведению и оформлению результатов. В итоге обязательное уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности в ряде случаев заменяется переработкой», — заявил Рохмистров. Из-за того что этот процесс не контролируется (в частности, не ведется фото- и видеосъемка), конфискованное имущество может начать использоваться вновь. В Росимуществе РБК сообщили, что сейчас агентство «работает над закреплением требований к фото- и видеосъемке процессов уничтожения».
В то же время на продажу чиновники направляют менее 1% конфискованного имущества. Предпродажная подготовка проводится «необоснованно» долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме проходят не во всех регионах, отмечает Счетная палата.
«На протяжении 2017 года рынок пытался понять и привыкнуть к формату реализации конфиската. Сейчас мы уже видим и достаточное количество участников торгов (на некоторые лоты поступает до 100 заявок), и более активную позицию рынка в целом», — ответили в Росимуществе.
Аудиторы СП также заявили о демпинге на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската — контракты либо заключались по символической цене 1 руб., либо исполнители даже доплачивали за контракт, а имущество впоследствии могло быть похищено. Сейчас власти работают над тем, чтобы переложить бремя затрат на уничтожение конфиската на бывших владельцев, сообщили РБК в Росимуществе.
Счетная палата отправила отчет о проверке в ФСБ и Генпрокуратуру, а также в Госдуму и Совет Федерации. Представления направлены в Росимущество и его нескольким территориальным управлениям — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Камчатском и Приморском крае, в Сахалинской и Новосибирской областях.