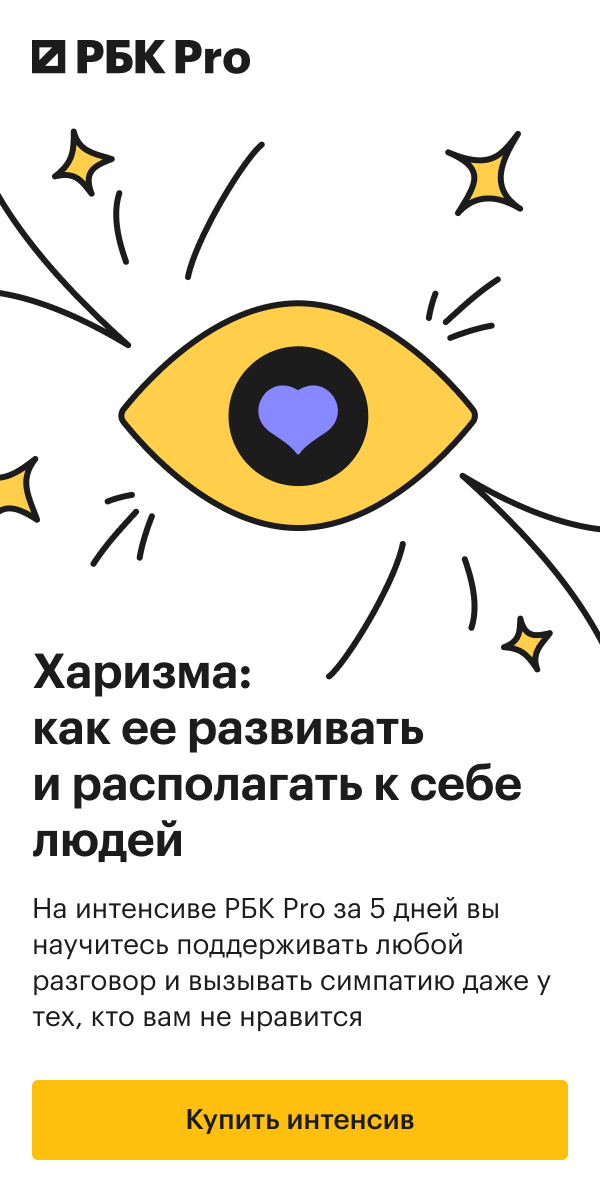Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая
Тема российского сотрудничества с Китаем в энергетике обсуждается давно и активно — говорят и о нефтегазовом секторе, и об угле, и об электроэнергетике. На стыке двух последних секторов расположились электростанции, производящие электроэнергию из угля. Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает. Попробуем разобраться, какие уроки в этой сфере наша страна могла бы получить у южного соседа.
Китайский путь
Вокруг угольной генерации вообще и в частности китайской и российской угольной энергетики сложилось немало мифов. Даже отраслевые эксперты иногда подсознательно оперируют сведениями, почерпнутыми из учебников конца прошлого века или многочисленных сетевых публикаций последних лет, в которых принято скорее обсуждать скорый «выход из угля» (coal phase out), чем разбираться в проблемах.
Например, принято считать, что Китай выходит из угольной генерации и останавливает свои угольные электростанции, ведь они очень грязные, устаревшие, построены по несовершенным технологиям; что угольные станции настолько испортили воздух в китайских городах, что их приходится закрывать, а новые не строить; что исключением из этого тренда является разве что проект экспорта электроэнергии из России в Китай — от новых огромных угольных станций на российской территории. С другой стороны, распространено мнение, что у угольной генерации в России нет больших проблем, она поступательно развивается, а у российских компаний много возможностей по экспорту своих технологий в этой сфере в Китай и другие страны Азии.
На самом деле производство электроэнергии на угольных электростанциях в Китае продолжает расти, пусть и не так быстро, как десять лет назад (4% в год вместо 12%), и объемы этого производства огромны: они больше, чем все российские электростанции (включая газовые, атомные, ГЭС) производят за четыре года. Но даже при этих количественных отличиях можно найти качественно схожие аспекты.
Например, чистота воздуха в городах. В Китае ситуация с этим тяжелее, чем в России. Так, в 2013 году премьер Госсовета Ли Кэцян объявил войну загрязнению воздуха. Тысячи людей в Пекине потеряли работу из-за закрытия чадящих фабрик, котельных и электростанций, миллионы пекинцев лишились права обогреваться углем в домах и буквально мерзли зимой. Последняя угольная ТЭС в Пекине, введенная в строй в 1999 году, была остановлена в марте 2017 года.
С другой стороны, все это не помешало ввести в строй в 2016–2017 годах две угольные ТЭС в пригородах Пекина — но они построены по новым китайским экологическим стандартам. Требования к выбросам от угольных электростанций ужесточились с 1996 года по 2012-й в среднем в 5,5 раза по оксидам азота, в 13 раз по оксидам серы и в 70 раз по золе — и стали более жесткими, чем нормативы США, Японии или Евросоюза. Диапазон допустимых значений концентрации вредных веществ сократился в три-шесть раз (по оксидам) и в 300 раз по золе.
Конкуренты с юга
Россия могла бы использовать этот опыт: с одной стороны, стимулировать закрытие небольших «грязных» угольных котлов и печей, которые используются промышленностью, предприятиями ЖКХ или домохозяйствами, жестко регулировать выбросы автотранспорта, а с другой — создавать для энергокомпаний условия для модернизации угольных электростанций, повышения их «чистоты». Перевод угольных станций на газ, который активно используется в России на протяжении последних 40 лет, не везде возможен и целесообразен, угольные станции должны становиться чище, и в этом деле очень бы пригодились китайские технологии. Китай, в свою очередь, мог бы почерпнуть у нас опыт развития систем централизованного теплоснабжения, которые позволяют отапливать города с помощью крупных ТЭЦ с небольшими выбросами.
Что касается степени совершенства технологий, то еще в начале 2000-х наши компании могли эффективно конкурировать за крупные заказы в Китае: так, в 2000 году ими построена ТЭС «Суйчжун» (2х800 МВт) с новейшим на тот момент российским оборудованием. Но спустя всего несколько лет — в 2008 году — российские поставщики проиграли китайским конкурентам тендер на строительство нового энергоблока на 660 МВт на Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Факты неумолимы: самый современный в России действующий угольный энергоблок был спроектирован и построен компаниями из Харбина — причем оборудование произведено там же, а роль наших компаний сводилась к адаптации проекта под российские стандарты. В разное время на строительной площадке станции работали от 900 до 2500 сотрудников из Китая.
В этом нет ничего удивительного на фоне колоссального технологического рывка Китая, произошедшего в последние 15 лет. В 2002 году стартовала правительственная программа, целью которой стало создание и коммерциализация китайских ультрасверхкритических технологий в угольной генерации, создан консорциум из 23 компаний и институтов, и уже в 2006 году запущены первые два энергоблока 1000 МВт в провинции Чжецзян. Технологии мировых лидеров Siemens и Mitsubishi были использованы для изготовления оборудования. По данным МЭА, суммарные затраты госбюджета, бюджетов провинций и бизнеса на НИОКР в угольной генерации в 2012 году достигали $700 млн. С 2006 года в Китае введено более 200 современных угольных энергоблоков, в том числе 94 — мощностью 1000 МВт. К сожалению, в России нет ни одного подобного энергоблока. Парк угольных ТЭС в Китае — один из самых молодых в мире — в среднем 15 лет (в России — около 40), при этом китайские ТЭС за 15 лет стали на 15% эффективнее и в разы более чистыми, оставив далеко позади большинство российских станций.
Российским энергомашиностроителям будет очень трудно конкурировать с «китайским драконом»: исход борьбы предрешен, немногочисленные локальные победы в отдельных проектах (в Монголии, Вьетнаме) не должны создавать несбыточных ожиданий. Но для российской экономики в целом использование китайских технологий для глубокой модернизации угольной генерации, строительства новых крупных объектов, в том числе и для экспорта электроэнергии в Китай или Японию, — хорошая возможность обновить отрасль без дополнительных затрат на возрождение и развитие с нуля собственных компетенций (путь, по которому, наверное, можно идти в газовой энергетике). Даже планируемая уже десять лет Ерковецкая ТЭС в Амурской области мощностью 5–7 ГВт (беспрецедентный для России уровень, сопоставимый с мощностью вообще всех тепловых электростанций на Дальнем Востоке) — это всего лишь 2% от находящихся сейчас в стадии строительства угольных станций в Китае и 6% от величины их годового ввода.
Важно отметить, что глубокая модернизация угольных станций необходима еще и в свете обязательств, которые берут на себя правительства многих стран (в том числе России и Китая) по сокращению выбросов парниковых газов. Кстати, Китай активно идет в возобновляемую энергетику именно по этой причине — в 2017 году он обеспечил 55% мирового ввода солнечных станций на фотоэлементах (53 ГВт) и чуть менее половины — наземных ветропарков (14,5 ГВт). Активно развиваются и газовые проекты. Решениями регуляторов в Китае как замораживаются, так и размораживаются проекты строительства сразу десятков гигаватт угольных ТЭС.
В эпоху «энергетического перехода» выживут те энергетические активы, которые будут показывать максимальную экологическую и экономическую эффективность в конкретном регионе. Угольная генерация в России останется частью ландшафта (в первую очередь в Сибири), а в Китае будет основой всей электроэнергетики еще десятилетиями, так что нам пора начинать приводить ее в порядок — по примеру южного соседа.